Пускай сойду я в мрачный дол,
Где ночь кругом,
Где тьма кругом, -
Во тьме я солнце бы нашел
С тобой вдвоем…
Роберт БЕРНС
Перевод С.Маршака.
Мамонтовка. В то лето писалась повесть "Вам и не снилось". С подругой Валей Бойм и сестрой Людмилой.
Александр Аронов (!980 г.)
Церемония вручения премии за лучший фильм 1981 года.
Геннадий Алексеевич Бадьин, дядя Геша.
Дядя Геша - один из самых сильных шахматистов города.
Коля Тамбулов.
Регина.
С любимой теткой-подружкой.
Где ночь кругом,
Где тьма кругом, -
Во тьме я солнце бы нашел
С тобой вдвоем…
Роберт БЕРНС
Перевод С.Маршака.
Мамонтовка. В то лето писалась повесть "Вам и не снилось". С подругой Валей Бойм и сестрой Людмилой.
Александр Аронов (!980 г.)
Церемония вручения премии за лучший фильм 1981 года.
Геннадий Алексеевич Бадьин, дядя Геша.
Дядя Геша - один из самых сильных шахматистов города.
Коля Тамбулов.
Регина.
С любимой теткой-подружкой.
Продолжение. НАЧАЛО
Есть в Интернете сайт Лайвлиб (www.livelib.ru), созданный для любителей книг. Там заядлые книгочеи ведут свои дневники, оставляют рецензии на прочитанное и т. д. И в том числе выписывают цитаты из полюбившихся им книг. Среди авторов, удостоившихся такого внимания, есть и Галина Щербакова. Такая подборка цитат дает и какое-то представление о читательской аудитории, и отчасти отражает ее, автора, писательские и личные свойства.
Мне пришла мысль включить часть этой интернетовской подборки в последнюю, вышедшую в октябре 2012 года книгу Галины «Печалясь и смеясь». В ней сведены в некое целое художественные ее сочинения с тем, что на западный манер стали называть nonfiction. Выдержки из ее произведений стали естественным дополнением книги.
И вот на что я обратил внимание. В подборке – явное количественное преимущество юных читателей (что отрадно на фоне тревог за «нечитающее поколение»): это видно по преобладанию выписок из «юношеских» повестей Щербаковой – «Отчаянная осень», «Дверь в чужую жизнь», «Мальчик и девочка» и особенно - из «Вам и не снилось». Как бы автор при жизни не открещивался от нее как от самой яркой вещи в своей творческой биографии, как бы критики традиционно ни морщились по поводу ее «дешевого успеха», вот уже почти тридцать пять лет непрерывно «Вам и не снилось» не уходит из сферы издательского и читательского внимания. Тут речь идет не о трех-четырех переизданиях, а (с учетом различных сборников, хрестоматий и т. п.) о десятках. Несколько поколений старшеклассников «проходит» эту книгу как свою, несмотря на круто изменившиеся внешние реалии, отраженные в повести. Как выразился один критик по поводу этой популярности, «любовь народная иррациональна, не прогнозируема».
Именно поэтому, хотя выбор каких-то выдержек мне казался не очень понятным, моя рука не притронулась к читательской подборке цитат. Очень может быть, ИМ – виднее.
Именно потому же, из-за неизмеримого читательского пристрастия к «Вам и не снилось», я никогда не решился бы упомянуть о моем вмешательстве в работу автора над этой повестью, если бы Галина сама не сказала об этом.
«И я села писать повесть о любви. У нее не было названия, но имена были сразу – Роман и Юлька. Писалось легко, радостно, так как я больше всего люблю, когда не знаю ни следующей фразы, ни, тем более, чем все кончится. В сущности, это как полет птицы в небе, не ведающей, насколько она взметнется вверх, равно как низко на застывших крыльях сядет на землю, дерево ли, крышу.
Замечания по тексту я принимала только от мужа, я давно знаю, что он лучше меня понимает мои «закидоны» и сумеет поймать меня в каком-нибудь совсем уж завиральном полете слов и мыслей». («Как это все писалось» [«На вас уповаю»]. «Вам и не снилось». ВАГРИУС. 2004).
В одном телеинтервью Галя сказала, что она быстро написала эту повесть – за одно лето. Память тогда подвела писательницу. Все было сделано гораздо быстрей. И она действительно попросила меня почитать рукопись. После этого разговор был, однако, не о словесных «закидонах», а скорее, о «полете мыслей». Я сказал, что все славно написано, но… не ясно, что здесь главное, перипетии душевной маеты учительницы Татьяны Николаевны Кольцовой или история любви ребят. Было бы гораздо интересней, если бы больше рассказывалось о Юльке и Романе, а не про их училку. А еще лучше эту Танечку вообще убрать.
Через какое-то время (никак не более недели, а точнее не помню) был готов другой вариант – нынешнее «Вам и не снилось». Он меня как читателя тоже не вполне устраивал: Танечка не была изничтожена, хотя и сильно уменьшилась в объеме страниц.
- Что, жалко написанного? – спросил я у автора.
- Жалко, - честно признался автор.
Это можно было понять. Ну, и ладно, решил я. Было бы из-за чего упираться. Так, хорошенькая повестушка. По сравнению с тем, что уже ждет своего часа, лежит в столе… С теми же «Провинциалами»…
Уже потом, через много лет, пытаешься выявить обоснования «иррациональной, непрогнозируемой народной любви».
Смелость? Может быть.
Вот фрагмент отчета в «Независимой газете» о вечере памяти Галины Щербаковой в ЦДЛ. Тогдашняя сотрудница журнала «Юность» Татьяна Бобрынина, ныне генеральный директор издательского центра «Новая Юность», по словам автора отчета Наталии Лазаревой, «способствовала появлению нового и до боли известного людям разных поколений названия для повести: «Вам и не снилось». Конечно, большую известность этому названию придал одноименный фильм Ильи Фрэза, но ведь сначала-то была проза, и проза не простая и, что крайне важно для того времени, не очень-то проходимая. «Тогда это была маленькая революция – говорить о любви между детьми», – заметила Бобрынина. Тем не менее революция свершилась…»
Но здесь имела место и авторская решительность иного рода, изначально присущая писательнице, о которой писала еще И.Соловьева в известной нам рецензии.
«Галина Щербакова проявляет смелость, беря в качестве сюжетов… - сюжеты традиционно-драматические, постоянные… Смелость, о которой мы упомянули, основана на ее уверенности: в жизни не так уж много разнообразия, если рассматривать ее сюжетные драматические схемы, только все дело в том, что «проживать» эту схему каждый будет в соответствии со своим человеческим опытом, в соответствии со своим «стилем» и «жанром» личности, - посмотрим же, что конкретно получится в каждом данном случае...»
Да уж, трудно найти тему более традиционную, а говоря откровенно, заезженную (поэтому и опасную), чем «Ромео и Джультта». Возможно, у большинства прозаиков есть та или иная ее вариация. Почему же именно на Галину Щербакову обрушился такой шумный и неожиданный успех? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но могу предложить гипотезу.
Возьмите «Вам и не снилось», откройте на любой странице и почитайте 2-3 минуты. Будет ли вам скучно? Возникнет ли внутрислуховое или чисто зрительное неудобство от входящего текста? Не станет ли он отвлекать ваше драгоценное внимание на изысканные, любовно извлеченные к случаю из заветных запасников словечки и выражения, свойственные сугубо виртуозному мастеру стилевой игры?..
…К чему я веду? К тому, что в самом природном слоге Щербаковой изначально заложена интонация, идеально подходящая для естественного современного изложения очень простой истории, когда-то случившейся в Вероне (а до нее – и во многих других местах, где обретались люди).
«…Рассказывает Щербакова просто. Интеллигентно. Обыкновенно. (Это Магомаев боялся повторять «слова привычные».) Доверчиво. С завлекательными подробностями… Остроумно. Не чураясь сленговых новинок. Играя в снисходительность к героям, читателям и себе. Только играя…» Это слова критика Андрея Немзера (газета «Время») на новомировские повести Галины о любви: «Love-стория», «У ног лежачих женщин», «Радости жизни, «Косточка авокадо» (А.Немзер «Как, с чего начать мою историю?»). А вот мнение литературоведа, критика Аллы Марченко: «Главное – это ее интонация, сам способ рассказывания, я бы сказала – довлатовский. И читают ее, так же как и Довлатова, и интеллектуалы, и люди простые» («Независимая газета», 07.06.2012).
«Как это обычно и бывает, после смерти писателя проходит волна переиздания его произведений. Взяла сейчас в библиотеке сразу несколько книг Галины Щербаковой… Зачем на каждой обложке помещать сообщение: «Новая повесть от автора «Вам и не снилось»!»? Зачем? Это даже как-то оскорбительно. «Вам и не снилось» - да, был, что называется, бестселлером, в те годы, когда еще и слова-то этого не было в русском языке... С тех пор Галина Щербакова написала много, на мой взгляд, ничуть не менее хороших книг» (natali_ya. Сайт Entries tagged with литература).
Такое суждение не раз поддерживала и сама Галина Николаевна. На встречи с читателями «случается, приглашают. Только я отказываюсь. Потому что разговор опять будет крутиться вокруг одной лишь «Вам и не снилось». А у меня уже скулы сводит ее обсуждать. Я давным-давно другую мысль думаю - хотя бы две мысли мне позволено думать? Да она никогда и не была для меня главной вещью. Скажем, почти одновременно опубликовали другую мою повесть, «Дверь в чужую жизнь», - так она куда лучше, я уже тогда так считала. Она серьезнее, глубже» («Новый мир», 1999 г.).
Осталось только убедить в этом «широкого» читателя. И издателя. В конце 2012 года был выпущен том на 640 страниц в серии «Русская классика». Его выход принес мне огромную радость. Что вошло в него? Совсем не то, что критики считают вершинами щербаковской прозы. А то, что быстрее всего расходилось и расходится в книжных магазинах. И как называется этот прекрасно изданный том? Догадайтесь с трех раз.
«Вам и не снилось».
К тому же есть прямо противоположные мнения об этой «завлекашке». К примеру:
«В сельской библиотеке небогатый выбор серьезных современных книг. Возможно, эту книгу купили только из-за рекламки на обложке: «От автора бестселлера «Вам и не снилось».
Хотя это и выглядит как ярлык, но нужно признать этот рекламный ход издателя успешным, поскольку именно он помог мне определиться в выборе.
Да, так банально и как-то необразованно что ли, я выбирала книгу. Мне не хотелось тратить время на болтовню неглубоких книжиц (я такая впечатлительная, вдруг ещё запомню чего), а здесь хоть какая-то, с позволения сказать, гарантия… Гарантия чего? ... Ну, по крайней мере, того, что книга не дура…
…Её я читала как гоголевский Вакула - три ночи (на этом аналогии с многоуважаемым «Вием» закончились), по одному произведению каждую ночь. Теперь имя Галины Щербаковой я запомню навсегда, и совсем другие посылы отправят меня к её прозе» (freska, http://www.myjulia.ru/, Женская социальная сеть).
Между прочим, был один читатель, который, не зная об этом, публично разделил мое мнение об излишнем присутствии в повести училки, Танечки, которую жалко было выбросить, раз уж она написалась. Им был Александр Аронов, тонкий поэт и проницательный критик. В большой рецензии в «Московском комсомольце» он писал: «Мне вот тоже бросились в глаза ее недостатки. Скажем, композиционная нестройность, рыхлость, случайность какая-то в архитектонике. Повесть поначалу складывается как описание жизни учительницы, ранее бывшей актрисой, да неудавшейся, о ее матери, увлекавшейся работой до того, что «проскочила» она и личную жизнь и материнство. А только мы успели познакомиться с учительницей Таней, как действие переносится на ее класс, там, поколебавшись, останавливает свой выбор на двух учениках и рассказом их влюбленности себя исчерпывает».
Стоит сказать, в связи с чем написана эта рецензия. Галина так вспоминала конец 1979 года:
- Я сидела поджавши хвост. Мне так вмазали со всех сторон, что нужно было еще в себя прийти. В «Московском комсомольце» напечатали огромное письмо учителей, которые требовали уволить редактора журнала «Юность», где была опубликована повесть, а автора чтобы лишили навсегда возможности сочинять и публиковаться.
Газета с этим письмом у нас не сохранилась. Но другая – есть. Со статьей двух преподавателей московских педучилищ под заголовком «Март без весны». Там с большевистской прямотой говорилось: «Поражают ограниченность и духовная бедность героев, особенно Юльки. Жалкое впечатление производит 17-летняя девушка, ничем не интересующаяся, кроме личных переживаний. Словно где-то в другом мире существуют общественные интересы, искусство, друзья… Автор не только не дает пищи для серьезных размышлений о жизни, не побуждает к душевной работе, но и приводит молодых читателей к поспешным выводам и обобщениям. И в трудном деле воспитания чувств эта повесть не будет помощником».
Вот на эти «заметки», как их обозначили педагогини, более двадцати лет кохавшие свою собственную смену, и отвечал в своем разборе повести Александр Аронов. Он назвал его «Весна без марта?» и был вынужден говорить бедным учительницам, с девичества замордованным идеалами Надежды Крупской, очевидные истины.
«Нельзя «бороться» с персонажами, как с живыми людьми. Нельзя не замечать мира авторского, внутри которого они только и существуют.
…Вот, например, у живых было бы не важно, как их зовут. И с Юли спрос не больше и не меньше, чем с Гали, а с Романа, чем с Петра. А в книге это обстоятельство важнейшее. Потому, что «Юля», перевести ее на итальянский, — «Джульетта». А Роман — самое похожее из русских имен на Ромео. И тот, кто этого не замечает, просто читал не эту повесть, а слушал абстрактный пересказ о чьей-то там несвоевременной влюбленности.
Вот здесь и легкая, скажем, композиция повести может оказаться содержательной. Не так уж случайно в начале повести возникает «Вестсайдская история» - тоже ведь откровенный вариант «Ромео и Джульетты», и ребята вовсе не радуются ей. То ли потому, что спектакль бездарен, тo ли они просто не узнают в этой экзотике самих себя и своих нужд. А тут мы замечаем, как Таня похожа и не похожа на «Таню» Арбузова, тоже названную в тексте. И что все мамы и все учительницы рассмотрены, если и не со всех сторон, то с одной, самой для этого разговора важной: как они умеют любить и как это умение делает их счастливыми (а неумение — несчастными).
…Итак, «от чресл враждебных родилась чета, любившая наперекор звездам...».
Как раз это и не ново. И ругать за это 16-летнюю Юльку (забыв о 14-летней Джульетте) наивно. Нам рассказана именно старая история, чтобы мы могли проверить не героев — они заданы, а себя. Не может ли и среди нас погибнуть, не состояться великая, ни с чем не сравнимая первая любовь?»
По-моему, Аронов был единственный в московской прессе, кто с пониманием дела отозвался на мгновенно возникший интерес миллионов читателей к этой публикации «Юности». «А прогрессивные, высоколобые критики тоже ставили меня на место, - вспоминала Галина, - возмущались: как же так, приличных людей наказывают, притесняют — шел 1979 год, знаменитая кампания по шельмованию «метропольцев», - а тут посмела вспухнуть какая-то Щербакова, которую все почему-то читают, хотя никакого права на это она не имеет».
«Литературная газета» вообще учудила штуку. К старшеклассникам приходил ее сотрудник и спрашивал, к примеру, кто из них читал «Первую любовь» Тургенева. Оказывалось, почти никто. «А вам и не снилось»? Оказывалось, почти все. Вывод - похожий на заключение двух педучилищных менторов: «повесть не будет помощником» в образовательном процессе. Как ни странно, именно в писательской газете проявили при этом сравнении полное отсутствие литературного такта по отношению не только к вдруг «вспухнувшему» автору, но, в первую очередь, к неповинному ни в чем уважаемому русскому классику.
Хочу откровенно сказать: это лицеприятие «через губу» к читательскому успеху Щербаковой со стороны и официального, властного литературного истеблишмента, и со стороны, как бы нынче сказали, «оппозиционного», не менее деспотичного, определило ее отношение (я бы его назвал как снобское) к так называемому литературному сообществу. Она состояла, конечно, в Союзе писателей (московском) и даже была где-то в начале девяностых на одном его собрании, а потом долго отплевывалась от вкуса его некой совковой партийности. Ни на одну сугубо писательскую тусовку за всю жизнь она ни разу не ходила (кроме обязательных, когда, например, была членом жюри книжного конкурса).
- Я живу обособленно, - говорила она в одном из интервью. - Редко выхожу из дома. Сохраняю силы и здоровье, чтобы еще написать сколько-то вещей, которые уже крутятся у меня в голове. А если я начну растрачивать свои силы на тусовки или на танцы перед журналистами — я на этом и кончусь. К тому же я безумно обидчива. А всякая тусовка, всякая компания остра своими пересечениями. Я могу услышать какие-то слова, которые ранят меня до такой степени, что я потом долго буду не в состоянии работать. Возможно, для актрисы, для Пугачевой, делать себе промоушн и в порядке вещей. Но я, во-первых, этого не умею. А во-вторых, я все-таки не актриса, у меня другая профессия, и мне дорого мое доброе имя и душевное спокойствие.
В этом стопроцентно правдивом признании хочу выделить три слова: я безумно обидчива. Именно поэтому я и отнес время рождения ее «отшельнической» позиции к 1979 году. На самом деле, с какой стати человека стали теснить и явно агрессивные «моралисты», и собраться по перу, с трудом сдерживающие свою спонтанную, не имеющую даже внятного резона неприязнь? Все это – из-за небольшой удачно написавшейся повести?..
С того времени у нее выработалось (она выработала в себе) отношение к литературной критике в отношении себя, и негативной, и благоприятной, – не то чтобы равнодушное, а какое-то ледяное. В этом, подозреваю, как раз проявлялось истинное неравнодушие - боязнь дать прорваться «безумной обидчивости». Такое испытывают, уверен, многие писатели, заявляющие, что им глубоко не интересна критика, плевать они на нее хотели. На самом-то деле они тоже очень обидчивы, да только стесняются в этом признаться.
А вот к журналистам она всегда благоволила. Не помню ни одного случая, чтобы она отказала кому-то во встрече, даже когда была не очень здорова. Случалось, приходили, мягко говоря, не слишком квалифицированные представители нашего цеха, и не раз Галя откладывала стило автора большой прозы ради усовершенствования заметки репортера из большой или малой московской газеты. А потом обязательно поила его чаем.
Честно сказать, мне нравилось такое ее мировосприятие и такой образ жизни. Я не мог представить ее природную естественность в обществе манерных литмужчин и дам, каких я, например, видел, сопровождая ее на книжных выставках-ярмарках (так и тянуло приписать – «тщеславия»). Такими уж они мне виделись, прошу прощения за мой пристрастный, неисправимо провинциальный взгляд: горделивыми, словно на котурнах, утратившие непосредственность. Особенно удручающе было, когда все это проступало (впрочем, и не особенно скрывалось) через маску нарочитой, как у кота Матроскина, машинальной учтивости. Я мысленно иногда воображал свою писательницу похожей на одну (одного) из них, и мне становилось не по себе. Конечно, это относилось не ко всем сплошь. Но преимущественно…
Отсутствие «светскости» в моей жене однажды явственно открылось мне. Я уговорил ее пойти со мной на раут в честь какой-то годовщины «Эха Москвы». Тогда редакция еще приглашала на свои подобные сборы так называемых «отцов-основателей» радиостанции. Мне, когда работал в «Огоньке», ставшем одним из ее учредителей, волею судеб выпало принимать участие в становлении этого феномена в период его эмбрионального развития.
Мероприятия «Эха» мне всегда нравились абсолютным отсутствием официозности, свободой взаимного общения всех со всеми. Я заведомо полагал, что Галина, такая озорная, шебутная в любой компании, будет там как рыба в воде. И, как только к ней подошли, узнав в гостье известную писательницу, две сотрудницы радиостанции, я ушел «в свободное плавание».
Когда через какое-то время я опять прирулил к ней, то был озадачен. Внешне все было обыкновенно, и человек, не знавший Галину, считал бы, все идет как надо. Таким человеком и была женщина, которая с ней о чем-то оживленно говорила. Галя ей время от времени утвердительно кивала, повторяя какое-то из последних услышанных ею слов. Подойдя к ним, я понял, она не вникает в эти слова и вообще находится в состоянии чуть ли не сомнамбулизма. Что-то такое я уже однажды видел… И тут же вспомнил: Звенигород, «Елочка», увиденная в деревянную дырочку от выпавшего сучка фигурка нашей дочки с каким-то таким же безотчетным сонным поведением.
Я, отведя Галю от собеседницы, спросил:
- У тебя случайно нет температуры?
- Да нет.
- Домой хочешь?
- Хочу!..
…Помните бродячую мудрость: мужчина склонен находить в жене жену-маму или жену-дочь? В тот момент я впервые почувствовал в ней еще и жену-дочь.
Как в этом рассказе повелось, если есть такая возможность, одни те же обстоятельства или события читатель может увидеть не только с моей стороны, но и глазами Галины. Вот и сейчас – ее слово.
- Я попала в Москву с той волной, которой руководил наш славный ЦК. Ему ведь было дано право забрасывать невод в большие города для отлова крупных рыб. Москва почти наполовину состоит из этого улова. Есть рыбы очень крупные, такие, как Ельцин или Горбачев. Есть рыбешки поменьше. Журналисты — наособицу. А мой муж как раз и был переведен в Москву как собкор «Комсомолки», вслед за ним приехала сюда и я. Мне тогда было уже больше тридцати. Я была влюблена в Москву, меня можно было брать голыми руками, прошептав на ухо: «Неглинка» или «Волхонка». Наверное, это выглядело глуповато и наивно. Москва не приемлет сентиментальности. И, в сущности, правильно. Хотя поняла я это позже. Москва нахлебалась лиха с десантом маргиналов, еще начиная с революции. Я попала в столицу на пике любви к Булгакову, во время расцвета чертовщины вокруг него. Из всего этого родился рассказ «Косточка авокадо», один из тех, которые нравятся самой. Он про любовь и нелюбовь. Москвы и провинции друг к другу. Тем более, опыт первый уже появился. Была омрачена радость получения квартиры. Гневом тех, кто ждал улучшения своей жилплощади несколько десятилетий подряд. Моя родная тетка, живущая в столице с тридцать девятого, недобро поджимала губы, когда мы въехали в останкинскую «комсомольскую деревню», в сущности построенную для провинциалов. Кому было интересно, что все мы — пришельцы-десантники — где-то оставили хорошие квартиры, привычный уклад жизни, что свой приезд мы считали обоюдоважным для себя и для Москвы. Мы готовы были щедро отдавать, а нас считали нахалами и чужаками…
…До Москвы я работала журналистом в Челябинске, Ростове, Волгограде. Немножко хлебнула и московской журналистики. Но чего-то мне в работе столичного газетчика не хватало. Искренности, дружественности в отношениях с людьми, что ли? Или просто пришла моя пора идти и заняться тем, к чему неудержимо тянуло? Знакомые москвичи говорили: «Что значит — села писать? Вот уйдешь на пенсию, тогда и будешь писать». Мне кажется, что в Ростове мне бы так не сказали…
…Некоторое время меня нигде не печатали. И, когда моя третья повесть «Вам и не снилось…» несколько лет пролежала в различных изданиях, я, вконец отчаявшись, заслюнявила конвертик и отправила ее на студию имени Горького, адресовав Сергею Аполлинариевичу Герасимову. Через несколько дней мне позвонила его жена Тамара Макарова: «Я получила вашу повесть, она мне очень понравилась. Сергей Аполлинариевич в Париже, но я ее передала на студию». Еще через три дня позвонил Илья Фрэз: «Запомните, я позвонил вам первый». И действительно, потом был просто шквал звонков. Через некоторое время родился тот фильм, который вы все знаете. И вот тут-то стало все раскручиваться. ...Меня стали печатать, по моим сценариям стали снимать фильмы. Но я по-прежнему ощущала какую-то неуютность от жизни в Москве. И тогда придумала лично для себя терапию: я в Москву только еду, я в нее еще не приехала. И от этой установки на пребывание «вне» ушла боль, как выходят на своей станции попутчики по купе. Я играю в эту игру уже не один десяток лет. У меня нет ни капли обиды на тех, кто здесь родился. Я им даже завидую, как завидую римлянам и лондонцам. Но и немножко жалею москвичей, потому что многие так и не поняли, что все мы — жертвы системы, при которой пристойная цивилизованная жизнь возможна только на определенных участках земли. А большая часть русских просторов как бы не для белого человека. Суровая, не верящая слезам Москва бьет сильно, но и помогает раскрыться способностям человека максимально.
…Конечно, москвичи могут мне возразить: какого же черта вы, умники-провинциалы, не построите себе клозеты и театры, не проложите дороги, а лезете туда, где все сделано до вас? Почему не реализуетесь в родном городе? И строим, и прокладываем, и реализуемся. Но даже когда в самой захудалой и вшивой деревне будет телефон, а сельский фельдшер будет приезжать к пациентам на джипе «Чероки», какая-то часть провинциалов все равно будет собирать свои чемоданы и, воткнув в уши плейер, полетит, поплывет, поедет в Москву… Это как закон природы, как закон рождения и смерти.
(Запись Натальи Шеховцовой).
…И впрямь определенно сложившееся отношение Галины к сообществу никогда не переносилось ею ни на Москву как на таковую, ни на одного конкретного человека. При общении она всегда была внимательна, мила и предупредительна. По мне так, даже слишком предупредительна…
…Но с нашей Галей не соскучишься. Даже когда ее нет. Вдруг ненароком стали попадаться книжки с авторскими дарственными надписями. Исай Кузнецов, Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Михаил Львовский, Михаил Рощин… Сколько еще? Не знаю. Она их, оказывается, сразу ставила на полки «по алфавиту» или просто запихивала в еще не прочитанные новинки. Откуда они взялись? Из сопоставления дат и названий сочинений можно предположить, что Галина с их авторами встречалась в редакциях «Нового мира», «Советского писателя», «ВАГРИУСА».
Ну, а то, что перечисленные выше авторы – в основном, драматурги, то это или случайность, или… метка обозначенной колонтитулом, но так и не заполненной страницы жизни героини этого мемуара.
…Почти во всех писательских справочниках против фамилии Галины Щербаковой стоит – прозаик, драматург. Однако драматургом она перестала быть в 1987 году. По собственному решению.
За год до этого ее пригласил прославленный столичный театр с предложением поставить пьесу, написанную по ее же повести «Ах, Маня». Свой «театральный роман» она впоследствии отобразила в повести «Подробности мелких чувств», позаботившись о том, чтобы читатель не мог по сюжету и тексту с определенностью сказать о ее персонажах: о, да ведь тут вот кто описан! Между тем, ее главного героя, драматурга Николая Коршунова, точно так же, как Г.Щербакову, зазвали в «Театр Номер Один Советского Союза». Вот как это было в его восприятии (которое, без сомнения, совпадало с восприятием автора повести).
«В кабинете, полстены которого занимал не похожий на себя Чехов, — а он и не мог быть похожим в размере ковра три на четыре, — сидел Главный с закрытыми, тяжело набрякшими веками. Какой-то человек, видимо, имеющий фамилию Кучерявый, ломко стоял рядом, крутя в руках не то указку, не то жезл, не то палочку от барабана. «Для поднятия век Главному», — подумал Коршунов и да, угадал.
…Веки Главного были уже подняты.
— Подождем? — спросил Главный Кучерявого. И сам сказал: — Подождем. Без нее нельзя.
Потом он уже сосредоточил взгляд на Коршунове, который думал в этот момент, что поднятие век, в сущности, может ничего не значить. Во всяком случае, у Главного есть еще много створок, которые надо бы поднять и открыть, чтобы понять в конце концов — а что у него в глазу? Какая там гнездится мысль-идея? Ну пусть даже не мысль и не идея, пусть элементарная эмоция. Например, любопытство. Ишь, чего захотел! Любопытство — это не элементарная, это могучая эмоция.
А Коршунов сейчас, в кресле, согласен был на самую малость. На огрызок. Ну, чтоб его увидели в этом кабинете, что ли?
«А! — подумал он. — Для того тут и Чехов-ковер. Чтоб было ясно. Тут уважается только такого ряда интерьер. Вон и Булгаков у них в простенке, длинная склеенная фотография, штаны на которой у Михаила Афанасьевича не стыкуются с рубашкой. Могут вполне уйти сами по себе — штаны, и останется Булгаков бесштанным. Или, наоборот, слетит рубашка с головой, и останутся штаны». Одним словом, Коршунову захотелось встать и уйти, а так как это было трудно, то хотелось заплакать. В шарф. Но шарфа не было. И он высморкался с вызовом, гордо, как свободный человек, испытывая странное облегчение не в носу, а в душе.
И только он осознал, что спасение есть и в конце концов никто его здесь не замуровал, он может встать и уйти, как разверзлись двери и вошла Она.
Народная артистка — любимица народа, и это не тавтология, первое может не означать второе, а второе может не быть первым. Тут же было полное совпадение, тут все было чисто, как в стерильной колбе.
…Она была не просто рыжей — она была огненной. Пламя волос так освещало лицо, что просвечивались веточки сосудов на крыльях ее коротковатого, слегка курносого носа. Попавшие в пламя волос брови, как и полагалось им, были слегка обгоревшими, их явно не хватало на радугу глазницы, и Коршунов умилительно отметил наличие следов карандаша, продолжающего след сожженной брови. Высокой, азиатской выделки скулы подпирали купол головы, они же — скулы — формировали некоторую квадратность щек, что не говорило об аристократизме, но… о такой малости — аристократизм, ха! — можно было вообще не печься. Тут было много других составляющих, замесом погуще. Была огромная сила подбородка, который мог бы показаться кому-то грубым, не имей он выше себя блистательного рта с губами эротически-иронического изгиба.
…Глаза. Так вот... Это были глаза, прошедшие огонь и не сгоревшие в нем. И они отдохновенно мерцали, зная о собственной, проверенной пламенем непобедимости. И плевать они хотели уже на текущие воды... Что огонь и что вода. Это были глаза, которые, победив одно, другое в расчет уже не брали. Не в расчете были Главный, Кучерявый, Нолик, а Коршунов — просто смех. Зачем его побеждать? Его надо брать голыми руками и делать с ним все что хочется.
А Ольга Сергеевна хотела малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы, которая, будучи гениальной, «я словами не бросаюсь, меня тут знают… Ваш портрет будет висеть здесь...» И она ткнула пальчиком в простенок, где грифельно чернел подхалимский шарж на Главного… Веки Главного были вытянуты до подбородка, но вытянуты как бы набухшей слезой, а не каким-нибудь вульгарным водочным отеком... А если у человека слеза тяготит веко, то ведь сразу организм вырабатывает восхищение у всех смотрящих, ибо мы образной слезой люди трахнутые».
Так вот, насчет «малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы». Она у Щербаковой продолжалась много месяцев. После каждой встречи с Народной Артисткой автор возвращался очень озадаченным. Всякий раз требовались изменения только в одну сторону: главная роль в пьесе с каждым ее обсуждением должна была становиться еще более главнее, главнее, главнее. В нее, главную роль, переносились самые живые, «человеческие» черты прочих персонажей, их удачные реплики и т. д. И в какой-то момент автор сказала Народной Артистке, что дальше так дело не пойдет. На что ей Народная Артистка спокойно сказала: А вы знаете, что после этого вас никто, никто никогда не поставит?
Вот на этом и была поставлена точка в профессии Щербаковой как драматурга. «Подумать только, - вздымала она руки перед самыми близкими, - я за это время могла бы написать столько…»
Так завершился ее «драматургический запой».
А начинался он как естественное проявление одной из граней ее творческой натуры. Писательство Галины Щербаковой началось с романов. Потом вдруг у нее пошли повести – жанр более любимый читателями. А затем из-под ее пера, как бы стремившегося к густейшей краткости, стало появляться все больше рассказов.
Конечно, она сама сознательно не ставила своей целью именно такую эволюцию. Но так слагалась логика ее писательского развития. И видимо в соответствии с ней однажды плавное течение прозы сменилось на прямую речь «действующих лиц». Вот тогда-то мы и услышали от новоявленного драматурга давнюю, из детства идущую историю.
Она началась, когда в 1941 году немцы захватили Донбасс. «Удивительным было то, что в школу, открытую немцами, бабушка меня не отдала, а мама очень хотела.
- Арифметика и география, — говорила мама, — одинаковы при любой власти.
- Не надо ребенка перекручивать. Она живая. Эти немецкие школы кончатся через полгода, ну, через год. А что-то не то в головенку ей бросят.
Я плакала. Я хотела во второй класс. Бабушка не сдалась и сама проходила со мной учебники».
Как потом оказалось, мама была очень увлечена вкапыванием на дорогах штырей, на которых рвались шины немецких грузовиков, а ее ребенок тем временем вкрался в доверие к семейству местных интеллектуалов, ведущих происхождение из инженерии, завезенной еще валлийским промышленником Джоном Юзом, основателем Донецка (Юзовки). У потомков славного рода была шикарная по тому времени библиотека литературной классики. И потихоньку том за томом будущая писательница от нечего делать освоила ее. Случившийся по геополитическим обстоятельствам (и бабушкиным «косным» устремлениям) год неучения стал воистину для нее стержневым, а возможно, и определившим жизнь.
Как бы там ни было, но когда советская власть вернулась и открыла местную библиотеку, наша заядлая книгочейка была смертельно оскорблена, когда ей, как какому-то малышу, предложили почитать Маршака и Чуковского. А проблема и впрямь была: во вновь открывшейся читальне действительно было мало книг. Что могла сделать бедная библиотекарша под требовательным взглядом дочери вчерашней партизанки? Да ничего. Однако…
- Вот еще у нас что есть.
И библиотекарша вытащила большую запыленную кипу пьес.
- Я как заглянула в первую из них, так и замерла от удивления. Что это такое? Это не книга – но это интереснее, чем книга, показалось мне тогда, - вспоминала много лет спустя Галина.
…И вот пришла пора ей самой сделать нечто «интереснее, чем книга». Несколько лет она посвятила любимому занятию. За это время были написаны четыре пьесы и четыре сценария. Сценарии оказались счастливее пьес – по ним сняты фильмы. Кинорежиссеров привлекало умение автора создавать правдивые картины нашей жизни. Но написание сценариев было прекращено тем же авторским вердиктом от 1987 года. С десятком заявок на сценарии, сочиненных по просьбам студий, поступили просто: вместо вычеркнутого слова «заявка» было написано – «рассказ».
В поисках, с чего бы лучше начать эту главку, я надумал привести часть переписки с нашим Сашей. Ею, раз уж мне удалось выудить ее из всемирной(!) сети, я главку и закончу. Она относится к июню 2010 года.
…Прочитал «Эдду» (повесть «Эдда кота Мурзавецкого». – А.Щ.). Мамочка сыночка тоже не пощадила, но, к сожалению или к радости, я сильно отличаюсь от описанного ею образа. Я, скорее, отношусь к людям, которые другим обламывают крылья, а не слабый человечек с поломанными крыльями. Она слишком редко меня видела и знала плохо...
Саша! Мы действительно все плохо знаем друг друга. И тебя тоже. И меня. Ты знал бы, с каким интересом твоя мама слушала меня примерно в конце февраля, когда я ей рассказывал, как я жил в Ростове в 1960-1962 году. Это была пора нашей «незаконной» любви. И почти до последнего дня она не знала многие обстоятельства той моей конкретной жизни - и в быту, и в профессии, а я, естественно, не придавал им никакого значения по сравнению с главным в ней и ничего не говорил о них. (В самые последние дни у нас случались такие разговоры не раз. Например, мы вспоминали, как в самые тяжелые - в материальном смысле - дни приходилось раздобывать деньги до получки. Или как в те же времена была у нас пора писания и попыток проталкивания пьес и сценариев, на что ушло несколько лет.) Для меня такие факты ни с какой стороны не меняют мое отношение к любимому человеку.
Как и к тому, что и я многое не знаю о моей Гале. К примеру, о том, что у нее был «канал связи» с твоим отцом, Евгением Ярославовичем. Я какое-то время назад случайно обнаружил письмо к ней от него (оно было не спрятано, лежало на поверхности наших каких-то бумажек). Я его сейчас отсканирую и передам тебе с этим письмом: считаю, что никаких сугубо личных маминых сведений оно не содержит, а к тебе, мне кажется, имеет какое-то естественное отношение.
Я знаю, что многое и в катиной жизни мне неизвестно. Но всего больше неизвестного - для тебя и особенно для Кати - в натуре и внутренней жизни вашей мамы, которые стремительно менялись в течение последних ...надцати лет ее жизни. Я не уставал удивляться этим изменениям, они меня радовали, жить вместе с таким человеком было интересно и радостно.
Батюшка!
Ты зря мне начал объяснять, что художественный образ сына Ма и я это не одно и то же. Я это и так понимаю. Но вряд ли ты будешь спорить, что за мамиными образами «Эдды», не вообще в ее литературе, а в частности, стоят конкретные люди. Но, поверь, я не настолько идиот, чтобы из-за нелицеприятного изображения меня таким, как я выгляжу со стороны, могу хоть на йоту изменить любовное отношение к маме или тебе. Более того, я считаю, имея в виду самого себя, что человеку правильно время от времени давать понять, каков он на самом деле, когда не почивает на лаврах собственного самодовольства. При этом, однако, я, как и ты, могу только посетовать на то, что то, какими мы видимся и какие есть, не просто не одно и то же, а две большие разницы. И в хорошем, а чаще в плохом смысле этого слова.
Если же вообще взять манеру маминого письма (надеюсь, ты не возмутишься до глубины души) то, с моей точки зрения, на нее оказало сильное влияние ее украинско-южнорусские детство и молодость. А ты знаешь, как красиво и забавно в запале общаются там солохи. Так что, когда мама раньше устно или письменно начинала чересчур образно, мягко говоря, передавать свое отношение к какому-нибудь человеку или явлению, я, принимая во внимание конкретный смысл сказанного, в остальном просто находил в ее речи развлечение. Не многие умеют так живо говорить и писать.
Абсолютно верно! Когда-то у нас в доме был двухтомник произведений украинских писателей. Однажды, заглянув туда, я незаметно его прочитал. Там та-акие страсти! Что твой Шакеспеар! И я твою мамочку всю жизнь дразнил ее хохляцким менталитетом: «Ой, лышенко! Рятуйте мене! Рятуйте! Дывытесь, люди добрые, що зробляется!» И это, я согласен, составляет и часть ее писательского менталитета. Это же придает определенную окраску многим ее сочинениям.
Я думаю, больше в этой рукописи уже не будет ни надобности, ни повода вспоминать «Вам и не снилось». Хочу попрощаться с этой темой стихами Рабиндраната Тагора. Все знают песню Алексея Рыбникова: «Ветер ли старое имя развеял?/Нет мне дороги в мой брошенный край.../Если увидеть пытаешься издали, -/Не разглядишь меня...» Это – письмо героини романа «Последняя поэма» своему возлюбленному. Но ведь оно написано в ответ на его послание. А там говорится:
Ты, уходя, со мной осталась навсегда,
Лишь под конец мне до конца открылась,
В незримом мире сердца ты укрылась,
И я коснулся вечности, когда,
Заполнив пустоту во мне, ты скрылась.
Был темен храм души моей, но вдруг
В нем яркая лампада засветилась,—
Прощальный дар твоих любимых рук,—
И мне любовь небесная открылась
В священном пламени страданий и разлук.
(Перевод Аделины Адалис).
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
I
Помните, Алена Бондарева взялась написать книгу о писателе Г.Щербаковой? В связи с этим какое-то время назад я отдал ей в качестве подсобного материала часть внутриредакционных рецензий на сочинения нашей общей героини. Сейчас, когда в моем мемуаре подошла пора коснуться чисто литературных дел, я попросил вернуть их мне. Алена отсканировала их и прислала по e-mailу.
Они мне о многом напомнили, и в частности – о затерявшемся «Кузе-Кирюше», втором галином сочинении в ее писательской жизни. И я стал с интересом вглядываться в плохочитаемые тексты (вторые или третьи копии машинописных рецензий), поскольку в памяти об этом рассказе почти ничего не сохранилось, кроме его самой общей схемы.
И вот передо мной суждение Валерия Осипова, которое сходу начинается такими словами: «Я прочитал три рассказа и две повести Галины Щербаковой. На мой взгляд, все они принципиально не подходят для «Молодой Гвардии». А завершается отзыв безотрадной сентенцией: «Трудно посоветовать автору что-либо конкретное (и конструктивное)… Может быть, ей стоит предложить свои произведения в журналы, чтобы там получить более подробную литературную консультацию, которая, возможно, поможет ей в дальнейшем».
Вообще-то, если бы Галина была чуть пооборотистей, она, распространи такой отзыв по редакциям и литературным конторам либерального толка, могла снискать их благосклонность и существенно ускорить продвижение своих произведений, и, может быть, прием в Союз писателей. В те времена главными предметами нелюбви, а то и просто ненависти прогрессивной интеллигенции были четыре объекта. Писатель Всеволод Кочетов со своим романом «Чего же ты хочешь?» («решительно выступил против разложения советского общества западной культурой и пропагандой») – «тупое и бездарное сочинение», по справедливому определению «метропольца» Евгения Попова. Писатель Иван Шевцов со своим романом «Тля» («впервые в советской литературе появилась книга об идеологических подрывных действиях космополитов и сионистов») – тупость и бездарность, почти по всеобщему мнению, тут были возведены в квадрат. Журнал «Октябрь», главным редактором которого долгое время как раз и был Кочетов. И журнал «Молодая гвардия» - главный рупор почвенничества, русофильства, так называемого «русского возрождения».
Так вот, многие считавшие идеи этого журнала просто-напросто дремучими, переносили свою оценку и на издательство «Молодая гвардия», выпускавшего ежемесячник. Таким образом, отторжение писателя от такого монстра можно было при желании считать знаком авторской порядочности. Тем более, когда отрицательная аттестация сочинения основывалась на такого рода аргументации:
««Кузя-Кирюша» (рассказ). Вызывает недоумение какая-то болезненная ущербность героини. Она существует на белом свете совершенно одна – без друзей, знакомых, сослуживцев. Работающие с ней вместе учителя чужды и неприятны ей все подряд. Вокруг героини пустота… И только получение комнаты (и сосед, нарочито дремучий молодой карьерист на ниве просвещения) дают импульс для общественного проявления героини. Обморок, или сердечный приступ, плюс положительный персонаж (корреспондент газеты, который конечно же все понимает абсолютно правильно), - вот, собственно говоря, и все светлые, активные эпизоды рассказа, которые в свою очередь тоже как-то слишком уж «слезливо, жалостливо» смотрятся со стороны. Все же остальное – не более чем затяжная рефлексия, которая, на мой взгляд, объясняется не общественными (как это пытается представить автор, изображающий свою героиню «лучом света», а все окружающее ее – «темным царством»), а психологическими последствиями какой-то клинической замкнутости героини рассказа в маленьком мирке своих коротковолновых ощущений. Вот это – укороченность мироощущения – автору показать безусловно удалось. А разговоры о Шолохове, Ремарке, Сталине – все это мнимая смелость, все это только разговоры, которые ни разу не подкрепляются плотью активных, реальных поступков и действий. Но зачем же привлекать литературу к анализу болезненно уходящей, отгораживающейся от всего на свете души? Это забота скорее медицины и, может быть, даже психиатрии… Современная жизнь с ее огромной сетью разветвленных общественных и личных коммуникаций просто органически исключает из житейской практики людей условия, в которых (как под хрупким стеклянным колпаком) может существовать человек, подобный героине рассказа Г.Щербаковой».
Я виноват перед читателем, приведя эту выдержку, из которой вряд ли можно понять, о чем рассказ. Но сделал это намеренно, чтобы дать представление об уровне доброй половины заключений о рукописях, возвращаемых нам в останкинскую слободу из отделов прозы самых различных журналов и издательств. Авторы, казалось, были всего больше озабочены разъяснением близорукому писателю сути «современной жизни с ее огромной…» и т. д. и растолковыванием ему, мимо чего он прошел, не заметив… Впредь постараюсь обходиться без упоминаний таких толкователей, хотя весьма забавно было бы «покататься-поваляться» на их… полудоносах, понаблюдать, как отнюдь не темные люди, какие-никакие литераторы, стараются не столько выразить свое мнение о написанном, сколько, подобно Михаилу Шолохову на известном съезде, раскрыть глаза начальству на гнилую идейную сущность своего собрата-сочинителя.
Но, нет, не будем заниматься этим. «Кузя-Кирюша» нам интереснее, и вот как излагает существо рассказа Бенедикт Сарнов в рецензии на предполагаемый сборник сочинений Галины.
«Г.Щербакова не делит своих персонажей на «положительных» и «отрицательных». Она рисует их сложными. Такими, какими видит их в жизни. Но, разумеется, никак нельзя сказать, что всех их она одинаково любит.
…Только работа и делает людей людьми. Ярче всего это показано в рассказе «Кузя-Кирюша», в котором автор сталкивает учительницу Гусеву с молодым чиновником гороно Володей.
Случайно эти два человека оказались новоселами в одной и той же квартире. Служат они оба – в одной «системе», «системе просвещения». Но Гусева – работает, а не просто служит. Она учит детей. Дело это – живое, сложное, поэтому у нее и ее коллег – множество трудностей и нерешенных проблем. Естественно, что частью этих проблем она делится с соседом во время воскресного чаепития. Володя использует этот соседский разговор в своем докладе на одном из совещаний. Причем, использует не как пример проблемы, требующий решения, а как повод для того, чтобы осудить «незрелую» учительницу с «чуждыми» взглядами.
Чиновник гороно Володя тоже мог бы работать, т. е. ходить по школам, сидеть на уроках, выяснять подлинные нужды учеников и учителей. Тогда бы он не грозил, не клеймил, а искренне старался что-то понять, помочь, исправить. Но у Володи нет внутренней потребности выражать себя в какой-либо работе. У него – лишь одна жизненная потребность: создавать для себя наилучшие, наиболее выгодные условия существования. Именно это и лишает его права называться человеком. Именно этим качествам Володи автор и противопоставляет бескорыстный труд Гусевой, делающий всю ее жизнь такой человечной, такой наполненной».
А вот интерпретация рассказа уже известной нам Инны Соловьевой.
«Во второй работе Галины Щербаковой «Кузя-Кирюша» сохраняется некоторая линейность, «объявленность наперед» нравственного конфликта – тройного конфликта между корыстным, деловитым и приученным ловить крамолу молодым жильцом двухкомнатной квартиры – его соседкой, героиней рассказа, пылкой в своем ощущении, что где неладно, искренней в своем протесте против зла и в своем доверии, что ее должны понять верно, - и корреспондентом молодежной газеты, парнем, который видит вещи так же горячо и верно, как героиня, но к тому же еще крепко стоит на земле, умеет постоять за правду не только смело, а и результативно, с успехом… Но написано все это уже несравненно тоньше, богаче (по сравнению с повестью «Кто из вас генерал, девочки?» - А.Щ.), с мягкой «объективирующей» зоркостью. В этом смысле очень удачной представляется сцена объяснения героини с приглашенным ею в гости соседом, когда очень изящно и грустно угадывается «второй план» ее рассуждений: героиня не ораторствует, она просто в волнении, а волнение – от того, что она смущена своей решительностью, с какой позвала в гости молодого (моложе ее) соседа, смущена лихостью, с какой выпила принесенного им вина, смущена тем, что он – во всех смыслах слова – чужой, и это отчуждение надо преодолеть хотя бы вот так, повышенной прямотой разговора на больные темы времени…»
Можно было бы привести еще немало выписок, дополняющих «портрет» рассказа. Но ограничусь одной точкой зрения – Алексея Приймы.
«…Инициативу журнала «Знамя», опубликовавшего на своих страницах «Стену», можно только приветствовать, даже, быть может, гордиться тем, что журнал вдруг вот взял да открыл новое «полнозвучное» ИМЯ.
Но уж коль открыл, то не во вред, наверное, знакомство «с новым именем» и продолжить... А рассказы Г. Щербаковой, на одном дыхании прочитанные мною, стоят этого продолжения, которое «следует»… Наиболее на страницах нашего журнала представимый – «Куза-Кирюша». Вот его-то я хотел бы порекомендовать к печати.
Приношу тысячи извинений за то, что я сейчас воспользуюсь терминологией и методиками анализа на уровне школярских штудий, но так, наверное, будет проще, будет - яснее, будет - всем нам вместе доступнее, наконец.
Г. Щербакова в рассказе «Кузя-Кирюша» переносит классический «треугольник» из сферы амурных связей в сферу социально-общественных отношений. Вместо «он ее любит - а она его нет, потому что влюблена в другого» у Г. Щербаковой «он от начала до конца подлец - и она его ненавидит, но верит, что сыщется на белом свете - другой хороший человек, который и сыскивается». Над этим новым «треугольником Г. Щербаковой» стоит задуматься (и критика, уверен я, еще задумается над ним и поставки его автору в заслугу); налицо ведь новаторское решение «старой как мир сказки». Очень современное решение. Очень в духе времени.
Отрицательный персонаж в рассказе - этакий моложавый карьерист (то, что он карьерист, читатель как бы сам домысливает, и эту возможность читательскую посоучаствовать, подомышлять тоже нужно поставить в заслугу молодому прозаику). Положительный персонаж - напротив - сердцем болеет за другого человека, свою собственную карьеру ни в грош не ставя. А героиня - оказывается как бы между двух огней, между «плохим» и «хорошим». И вместе с ней мы, читатели, тоже, в конце концов, склонны полагать, что всегда побеждает, и в случае героини нашей тоже победит, только «хорошее». Оптимистический вывод налицо - финальная мажорная нота представляется и, в общем контексте рассказа, гармоничной и, в контексте непростой судьбы школьной учительницы, вполне оправданной. Давно ожидаемой.
А теперь, со школьными формулировками покончив, скажу еще одно - последнее: рассказ читается с напряженным вниманием, герои, действующие в его пределах, суть не одномерные «отрицательные» и «положительные» персонажи, но - люди с поливалентными, я бы сказал, характерами - есть и хорошее в них, есть и плохое, а так называемый эффект узнавания сопутствует нашему чтению поминутно - то и дело ловишь себя на мысли: правда жизни стала в рассказе Г.Щербаковой художественной правдой, жизнь не скопирована молодым прозаиком в соответствии с какими-то там таинственными законами художественного письма - жизнь во всей ее полноте, со всеми ее радостями и горестями, болями и сомнениями, неудачами и срывами зримо, вещно и, я бы даже сказал, хищно воплощена в нем, в прекрасном рассказе этом – «Кузя-Кирюша».
Именно - хищно, без рюшечек и бантиков».
Куда подевался этот рассказ без рюшечек, не знаю. Можно предположить, исходя из «кислого» отношения автора к «Генералам», что сама Галина запрятала его куда-то подальше, дабы избежать вероятности оказаться в «молодых прозаиках». Поначалу, когда подоспел период «клева на Щербакову», у нее «в рукаве» было и без него много «новинок» из того знаменитого чемодана. А потом… Потом Щербакова вдруг предстала перед читателем совершенно непривычной гранью, многих из публики обратившей в недоумение: и тот же писатель, но и иной – не тот. В критике не раз мелькнуло определение: новый старый автор.
Михаилу Бутову из «Нового мира» удалось в своем обширном интервью с Галиной «разговорить» ее на эту деликатную тему.
- …Однажды у меня появилось чувство, что я здорово отстала. Я будто внезапно очнулась и обнаружила: литература, жизнь, весь мир — все уехало куда-то далеко-далеко вперед. А я застряла, где была. И должна теперь либо кричать вслед: мол, оглянитесь, вспомните, что и здесь тоже остались люди, не все уехали вместе с вами, — либо же догонять, даже обогнать. В итоге я заняла все-таки позицию промежуточную. Я и догнала, и осталась с теми, кто не сумел ухватить за хвост уходящее время. Так вот, в моих ранних вещах никогда не было прямой речи автора, мое собственное «я» оставалось за кадром. Существует такое мнение, и я к нему прислушивалась: когда ты говоришь «я», ты уже не способна ничего сказать о другом, только о себе. А тут я поняла: если я хочу писать некую иную прозу, я непременно должна быть там, внутри. Вроде бы и формальная вещь, но меня письмо от первого лица невероятно раскрепостило. Как будто я долго жила в запертой комнате, а теперь открываю двери, окна, стала выходить и смотреть: оказывается, и там что-то есть, и там... Я сразу обрела второе дыхание. Это не значит, что я собираюсь отныне работать только так. Моя последняя повесть, «Актриса и милиционер», сделана от третьего лица. Но все равно я вступила в какой-то другой мир, заговорила другим голосом — о том, о чем не могла, не умела говорить раньше.
Это было сказано в 1999 году. А само знаменательное «событие» произошло в 1994-м, при написании повести «Радости жизни» - «про тетю Таню». Это про нее Галя писала своей сестре: «Начиная с повести о тете Тане, я как-то легко перешла в какое-то другое состояние – я знаю, я умею, я не боюсь».
Вот при таких обстоятельствах она и могла отправить в какое-нибудь небытие «Кузю-Кирюшу», создававшегося в пору неуверенности и опасений. В сожжение рукописи я не верю: сама мысль о нем повергла бы ироничную Галину в состояние неудержимого смеха. Так что я надеюсь еще прочесть этот памятный рассказ.
Но как кстати в мой мемуар прикатилась повесть «Радости жизни» (в некоторых сборниках – «Радости ее жизни»). Она – одна из немногих, про которые сама Галина сообщила: это и про нее самое. Правда, где-то во второй половине сочинения обнаруживается, что рассказчицу зовут Оля. Уверен, это не недосмотр автора, а его стремление к внутренней правдивости. Какие-то, полагаю, детали в интересах художественной правды прошли обработку в писательском воображении – и «я» уже стало не Галей, а «образом». Олей. Все же остальное население повести, включая тетю Таню, осталось под своими подлинными, дзержинскими (по названию городка), именами. Как и в рассказе «Бабушка и Сталин», написанным позднее (2006 г.), но относящимся к тому же периоду жизни нашей героини.
Прочтем фрагменты из этих сочинений, и нам многое станет ясно, откуда есть зародились и пошли в творчестве писательницы важные постоянные темы и мотивы.
«…Пока мы ночью ехали домой, немцы уже отбомбили Киев.
Дальше пошла другая жизнь. Срочно уезжало начальство. Махонький наш городок просто встал от этого на дыбы. Бегство власти было посильнее немецкого наступления. Райкомовские жены мотались по городу в бигудях, собирая у тех, кто рожей не вышел для эвакуации, чемоданы. Одна такая примчалась к нам.
…- Ой! Ой! Ой! — сказала бабушка. — Откуда у нас чемоданы? Мы ж по курортам не ездим...
- Так вы ж тока-тока из Москвы. Я видела его своими глазами. Вы ж мимо нас ехали на бричке.
- Так он же сломался, — сказала бабушка. — Просто раз — и крышка отвалилась.
- Вы жадная, Николаевна, это все говорят. А время-то какое! Война! Надо помогать друг другу!
- Да что вы говорите? — смеялась ей в лицо бабушка. — Война! Надо же! То-то я смотрю, вас тут как подожгли. И на кого ж вы нас оставляете? — Бабушка слегка подвыла последние слова.
Но дама уже ломилась в соседний дом». («Бабушка и Сталин»).
«...Сразу после войны нас выселили из квартиры, которую дедушка построил на свои кровные в двадцать девятом году. Наши дома называли «жилкооп». «Вы где живете? - На Жилкоопе. А вы? — «На мелкой промышленности». Так у нас говорили.
Вернувшиеся из эвакуации начальники приглядели разрушенные войной наши каменные домики с садочками, палисадниками, клумбами и выпихнули нас из них, можно сказать, в двадцать четыре часа. Какие там права и законы! Во-первых, мы в отличие от эвакуированных провели войну на оккупированной территории, а потому нам полагалось за это отвечать. Но главным больным местом нашей семьи был дядя Леня, который с сорок первого года сидел в Бутырской тюрьме как враг народа. Можно сказать, мы были счастливы, что нас — бабушку, дедушку, родителей и троих детей — не выгнали на улицу ни в чем, что нам по справедливости советской власти полагалось, а дали комнатенку в так называемых «финских домиках», куда мы и втиснулись, окружив собой огромную, встроенную в комнату, печку. Финны, хоть и отсталый по сравнению с великим советским народ, не подозревали, что в двухкомнатной квартире будут жить аж четыре семьи. В другой комнате жили две молодые пары, пригнанные из Западной Украины на поднятие разрушенных шахт. Комнатка для ванной - ах, эти финны! - была превращена жильцами в угольный склад, потому как соседи тоже построили посреди комнаты печку. В туалете, к которому вода не была подведена изначально, странным образом оказался поставленный унитаз. Когда жилкооповские подружки приходили ко мне в гости, я им его демонстрировала, и они удивлялись и возмущались людьми, которые могут ходить по-большому в квартире. Это ж какие надо иметь понятия? Мои объяснения про воду не прошли. Какая вода? Откуда ей взяться на такое?
Интересная история была с нашей мебелью. Ее некуда было брать из оставленного дома. Ее растыкали по знакомым, прося об этом как Христа ради. Труднее всего оказалось приткнуть пианино. В конце концов его поставила к себе в сарай моя учительница музыки. Когда мы с мамой накрыли инструмент старыми одеялами, сестра учительницы музыки, учительница географии в нашей школе, сказала маме: «Передайте, Валечка, Федору Николаевичу (дедушке), что он проиграл наше пари». Я из книжек знала, что такое пари, но вообразить не могла, к чему его присобачить в нашей жизни. Пари и унитаз с нашей жизнью не сочетались. Это были пришельцы из других миров, и вызывать они могли только удивление. От этого и запомнились слова о пари, и еще потому, что мама цыкнула, когда я спросила, что имела в виду учительница. Всю дорогу она ругалась, что вечно я лезу куда не надо, что вечно идиотские вопросы, что нельзя до такой степени «ничего не понимать самостоятельно, без лишних вопросов, если дан ум».
Дан ум... Данум... Даум... Даун...
Недавно я в каких-то там воспитательных целях сказала своей внучке:
«Человеку дан ум, чтобы понимать». — «Ах, бабуля! — ответила моя кукла. — Ум может быть умным, может быть и дурацким. Наверное, у меня дурацкий». Она хитро посмотрела на меня: мол, что с дурочки возьмешь? И ускакала своим путем.
Я представляю, что бы со мной сделала моя мама при таком развороте рассуждений. «Дан ум» был вечным рефреном нашей семьи. Можно подумать, преуспели! Так вот пари, оказывается, было такое.
Учительница географии: не надо строить в жилкоопе дом. Если строить, то свою личную саманную мазанку. С государством ни на каких условиях связываться нельзя — все равно отнимет и скажет, что так и надо.
Дедушка: спорим.
Время показало, у кого был ум.
Мы безропотно гнездились у печки, а потом родители, не выдержав скученности, пошли строить ту самую мазанку. На стройку брали мою младшую сестру, чтоб нянчить совсем маленького брата. Послевоенного сыночка мама с глаз своих не спускала и не доверяла никому.
Я же оставалась сторожем финской комнаты, потому что — мало ли что... Пригнанные с запада украинцы не внушали моей семье доверия…
…И вот я оставалась одна. Я не открывала ставни, потому что в полумраке поставленные абы как вещи: трюмо посередине, кушетка на попа, разновысокие кровати под единым одеялом, шкаф в простенке между двумя узкими, но высокими окнами (ставни к ним были много ниже, потому что их сняли с петель на старой квартире и привезли завернутыми в скатерти), — так вот, все это в сумраке способствовало моему буйному воображению.
В полумраке все казалось красивым подземельем, где я — пленница влюбленного в меня ксендза: прочла какой-то роман без начала и конца, продававшийся на базаре постранично на самокрутки и кульки для семечек. Дедушка любил «спасать книги». У меня до сих пор стоит Пушкин с семнадцатой страницы, а Гоголь — с сорок второй. Гоголь почему- то шел шибче. Видимо, быстрей загорался. Или более соответствовал семечкам.
Однажды, когда я убедительно и страстно объясняла ксендзу, что любила, люблю и буду любить только краковского шляхтича, не помню, как там его звали, скажем, Кшиштоф, дверь распахнулась и…». И дальше - про тетю Таню. («Радости жизни»).
А тем временем у пианино, изгнанного райкомовцами из дома вместе с его владельцами, протекала своя жизнь. В силу каких-то житейских передряг оно переехало еще раз, теперь – к тете Лене Чумачке. И «однажды бабушка сказала: «Пойдем к Чумачке». …В крохотном саманном домике наш «инструмент» выглядел как слон в посудной лавке. Он был нелеп, смущен и обескуражен. Тетя Лена была портниха-надомница.
…Мы еще не вошли во двор, А она уже кричала:
- Приходили тут… Спрашивали, чем мы занимались при немцах.
- И что ты сказала?
- А то и сказала! Они ответили, что никаких фактов нет.
- Ну, гадюки! – ответила бабушка.
А дело было насколько простое, настолько и неразрешимое. С результатом этого дела я ездила поступать в университет и поступила. Это была полстраничная справка, что моя мама была членом партизанского отряда имени Щорса. Смешно сказать, но я хорошо знала этот отряд. Трое дядек, мой отчим, мама и эта самая тетя Лена. Я не сразу поняла, чем они занимаются, но когда они приходили к нам, то садились за стол, на который стелилась скатерть и ставилась водка. А из-под стопки постельного белья доставалась баночка шпрот и ставилась посередине. Я так и не знаю, съели ли их все-таки или нет. Баночку потом, после ухода людей, убирали, как и водку. Дедушка в это время ходил по улице, постукивая палочкой, и на голове его была белая фуражка.
А бабушка на крыльце подшивала бесконечный подол бесконечной юбки. Мое место было на качелях.
Мама моя была диверсантка. Она вбивала в шоссе, ведущее на фронт, как потом выяснилось, к Сталинграду, штыри (или как их еще называют?) и этим останавливала поток машин. Ходили они вместе с тетей Леной Чумачкой, у которой после войны жил наш «инструмент». Та стояла на шухере. Что делали другие щорсовцы, я понятия не имею. Но, говорят, были всякие листовки и подрывы немцев в уборных.
Так вот, поход «посмотреть инструмент» ознаменовался знанием того, что райком нового разлива отряд имени Щорса не признает, а факты диверсий приписывает себе. Будто бы коммунисты никуда не уезжали, а прятались в шахтах и били немцев наповал.
Бабушка сказала, что так это дело не оставит. Что ей глубоко было насрать как до того на немцев, так и теперь на райком. Но дочь рисковала жизнью за родину, хотя она ей объясняла, что эта родина не стоит ее смерти. Дочь не послушалась, ладно, пусть. Они с дедом пасли их, дураков, и дома прятали эти чертовы штыри. Они и сейчас лежат в погребе, где теперь поселили новых начальников. Одним словом, в конце войны отряд Щорса все-таки признали. И маме выдали справку. Хотя до этого она свое отсидела в ДОПРе за самозванство и непризнание боевых заслуг райкома. Ей там поломали пальцы и выбили зуб. Зуб она вставила, а пальцы ее мучили до самой смерти, распухали, ныли и плохо держали.
Когда мама принесла все-таки справку, то стала рвать ее на части, а бабушка выхватила и склеила документ.
- Это не тебе нужно и не мне, — кричала она на маму, — а дытыне твоей! Ей ведь всю жизнь отмываться придется от оккупации! Соображать надо!
Слава богу, не всю жизнь. Но для университета справка была не лишней». («Бабушка и Сталин»).
Какой все-таки занятный и запутанный алгоритм людского познания, казалось бы, явной реальности. Вот сцена ухода из жизни галиной бабушки, Екатерины Николаевны Сытенко. «…Накануне она попросила борща. «На тим свите такого нэ дадуть», - засмеялась она и почему-то сказала, что рада, что «бачила, як одну сволочь таки выкынулы з Мавзолея. Осталась ще одна. Чекайте, люди, чекайте». Мама сердилась, жаловалась: что бы по-человечески попрощаться, а то всю жизнь Сталин и Сталин. А он нам кто? Никто…».
А внучка Екатерины Николаевны в двадцать лет «сочла для себя возможным вступить в дерзкую переписку с самим товарищем Сталиным. …Странно, но когда через полгода великий и ужасный умер, я плакала горючими слезами».
Одна сволочь… - Никто… - Горючие слезы… Какая-то странная, «обратно пропорциональная» градация отношения: чем во времени дальше от объекта, тем более явный переход от неприятия к… положительному чувству.
«Великим и ужасным», я полагаю, он стал после знаменитого доклада Хрущева. И тогда, видимо, в общий ужас («жах», по-украински) произвола бесчеловечного режима в предписательское сознание и воображение влились картинки бесчинств бессовестного начальственного быдла, сохранившиеся в детской памяти. Потом преобразовавшиеся в художественную правду, питавшую и многие целые произведения уже зрелого писателя, и саму почву, породившую десятки сочинений на, казалось бы, общежитейские, обыденные темы.
А еще была и публицистика. К примеру, с такими высказываниями:
«Украинский голодомор, так сказать, факт жизни нашей семьи, и я вполне понимаю счет, который сегодня предъявляет Москве Украина. Приказания морить народ шли из Москвы? Из Москвы. Руководил всем Сталин? А кто же еще. Это был жах? Жах. В смысле – ужас».
«Это же ваш любимый Сталин уничтожил сотни тысяч украинцев».
«Я ненавижу сталинизм и все, что он несет».
Будущей советской писательнице, как и многим из нас, до этого понимания пришлось дорасти. А ее бабушка все знала еще изначально. Так что не надо спрашивать друг у друга, почему Россия безнадежно отстала по своему общественному развитию от других европейских стран на сто лет. Сто лет опускались на дно. Не слушали бабушек.
А в необозримой дали, в 2273 километрах и еще 820 метрах на северо-восток от Галуси (так звала внучку Екатерина Николаевна) был я. Точное расстояние между Дзержинском и Красноуральском мне в наши дни выдал вездесущий Google. А в описывавшееся Галиной в вышеприведенных отрывках время я жестоко страдал из-за социальной розни в нашем пыльном, задымленном и загазованном городке. Нынче много говорят об опасных противоречиях между богатыми и бедными. А я вот с тех пор, с конца войны и первых послевоенных лет, никогда не видел такой угрюмой, мягко говоря, нелюбви одной части населения к другой, обывателей - к начальству. Или, выражаясь современным языком «политического класса», электората к элите.
На уральской территории не было оккупации, присвоения тыловыми крысами чужого крова и партизанских доблестей. У нас, наверно, в основе антагонизма в то голодное время была все-таки разница в пищевом рационе. Он регулировался карточками, хлебными и продовольственными. Я, разумеется, не могу сказать, сколько чего по ним полагалось на человека, но помню, что, кроме «рабочих» и «иждевенческих» карточек, были еще их категории под названиями: СП-1, СП-2 и СПБ. Что обозначали эти буквы, мне неизвестно, но в голове всплывают реплики: «Ну, у них же СПБ!» Видимо, СПБ было всего сытнее. У нас было СП-2.
Но главным в моей жизни было иное обстоятельство. Мой отец в то время был директором НСШ – неполной средней школы. И эта должность в глазах «электората» относилась уже к категории начальства. И, хочешь-не хочешь, между мной как отродьем начальства и народом была невидимая стена. Пацанва придумала мне обидное прозвище: Сыщик. Сейчас это слово обозначает вполне уважаемую и даже романтическую профессию. А тогда, скорее, было синонимом «доносчика». Чуть ли даже не «легавого» - то есть предателя, а то и вовсе милиционера.
Мне было обидно. Я остро переживал такое отчуждение. Мне хотелось быть с народом. Я как мог прибивался к нему. Когда среди мальчишек разразилась эпидемия гонять по городу различные колеса-обручи, я сбил у магазинной селедочной бочки скрепляющую ее огромную обойму, изготовил из толстенной проволоки массивную правилку и так наловчился управляться с этим тренькающим агрегатом, что мог с утра до ночи шляться с ним по городу, ни разу не уронив свое кольцо на обод.
Потом пришла пора самокатов. Все их делали из деревянных дощечек, ставили на два шарикоподшипника плюс еще один под руль – и со страшным грохотом носились по тесовым тротуарам. И я тоже. Параллельно развивалось увлечение «жосткой» - меховым кружочком с прикрепленным понизу свинцовым «грузилом». Ее надо было как можно дольше подбрасывать щечкой ступни. В этом спорте мне везло, что было важно: он – соревновательный, а значит, могущий способствовать повышению авторитета.
А еще были и городки, и «муха» - игра, похожая на лапту, только запускать битой надо было не мячик, а специально выстроганную чурочку. И еще много чего было. Все это я осваивал вопреки тому, что был хилым, сутулым и… Сыщиком.
Народ принял меня. Обидное мое прозвище потихоньку сошло на нет, я стал своим, можно сказать, в высшей уличной игровой лиге, которая летом устраивала ежедневные футбольные баталии, продолжавшиеся с утра до глубокого вечера. Поначалу все это было вокруг самодельного мяча: в покрышку наталкивалась трава, все это зашнуровывалось - дешево и сердито. Потом у нас появилась камера. Но она действовала только вкупе с баночкой резинового клея.
Это выглядело так. Вечером, после всех дневных трудов праведных из покрышки доставалась сморщившаяся камера, сильно надувалась и помещалась в тазик с водой. По выходящим воздушным пузырькам обнаруживалось место (или места) дефекта драгоценного для нас снаряда и заклеивалось аккуратным резиновым кружочком. Поутру эта черная, отдохнувшая и залеченная камбала опять запихивалась в покрышку, ее перевязанная суровой ниткой пипка скрывалась под полоской шнуровки, и начинался шумный, длинный и… благодатный день. В котором я был, как правило, защитником, а нападающим – Леня Коркин.
Этот Леня, вечно шмыгающий и бесконечно сыплющий какими-то дурацкими и непонятными прибаутками, феноменально водился своими как будто гуттаперчивыми ногами, за которыми невозможно было уследить. Обычно, еще до момента утренней сборки нашего мяча, я встречался с ним у его дома, и мы коварным образом подрывали фундаментальный принцип, как бы нынче сказали, «фейр-плея».
Дело в том, что каждый день из наличного состава игрецов формировались две команды по, казалось бы, случайному, а значит, честному принципу. Для начала выделяли двух как бы капитанов, их называли «матками». К ним по очереди подходили парами желающие играть с ритуальным вопросом:
- Матки, матки, чей допрос?
- Мой! – говорил один из «маток».
- Кого выбираешь – зайчика или козу?
(Здесь могло быть что угодно: камень или спичка, наш или немец, ромашка или говновозка и т. д., в зависимомсти от фантазии придумывающих «псевдонимы»).
- Зайчика.
И «зайчик» становился за ним, а «коза» доставалась другой «матке». Поскольку мы с Леней были друзья, а он у нас почти всегда был «маткой», и возникла мошенническая схема подбора игрока в команду не по воле добросовестного фатума, а по заведомому сговору. Я сообщал потенциальной «матке», какой из придуманных мной двух прозвищ необходимо выбрать, а дальше мне предстояло лишь убедить своего напарника по жребию взять эти прозвища.
Леня вообще был ловок и везуч почти во всех играх. И в жостке, и в денежных чике, расшибалке и пристенке. Была еще такая, можно уже сказать, доисторическая игра – в пёрышки. Пёрышко – это такой миниатюрный изящный металлический предметик, который вставлялся в деревянную (реже – тоже металлическую) ручку и которым, окуная его в чернила, писали по бумаге. Так происходило очень долгое время, с тех пор, когда прошла пора использования для этой надобности гусиных перьев. Игра заключалась в том, чтобы перышко противника, не прикасаясь к нему руками, а специальным щелчком по своему пёрышку, перевернуть, так сказать, с животика на спинку. А потом – со спинки на животик. И если наконец осуществишь такой переворот в третий раз, то пёрышко противника становится твоим! Пёрышки бывали в разном дизайнерском исполнении. Наиболее популярными были «Ласточка» и «Лягушка». Всего легче поддавались игровым манипуляциям пишущие приспособления под именем «86» (на них зачем-то была запечатлена такая цифра), а всего труднее была одолеть «Рондо».
Эта игра была необычайно популярна в сороковых годах. Я был в ней мастером, а Леня Коркин – корифеем. Перышки наши, пусть и были товаром очень массового потребления, тем не менее, имели определенную, хотя и небольшую цену. Но однажды, сложив ленины и мои стратегические припасы, мы на красноуральской барахолке выменяли на них полный комплект учебников для третьего класса! Естественно, для Лени, у меня они были.
В пёрышки мы ухитрялись поигрывать даже на уроках, на партовой скамейке. Как наша любимая Наталья Захаровна не замечала это?.. На переменах в удаленных школьных уголках процветала жостка, не очень приветствуемая учителями из-за обиваемых ловкими ногами крашеных панелей. А знал бы директор школы, мой отец, что распевают, собравшись в кучку, младшеклассники вверенного ему ответственного учреждения? Например:
По военной дороге
Шел калека безногий,
А в кармане он нес пузырек.
Он зашел в ресторанчик,
Чеколдыкнул стаканчик,
Вспомянул восемнадцатый год.
Или:
Кони сытые, ребра считаны,
Просят у Бушуева овса.
(Поется на музыку «В бой за родину, в бой за Сталина»).
Здесь требуется пояснение. Градообразующее предприятие Красноуральска – Медеплавильный комбинат. А всю его кормежку обеспечивает так называемый «Медьпродснаб». Его начальник – Бушуев. Он самый главный в городе и его окрестностях. Росчерка его пера хватает, чтобы осчастливить семью – «прикрепить» ребенка к столовой, где его хоть раз в день покормят. По-моему, он же распределял все эти СП и СПБ. Я не помню, кто тогда был директор комбината или главный начальник города. А Бушуева помню. Строить над ним насмешки было таким же святотатством, как сейчас назвать Госдуму – Госдурой.
А еще тогда обретал свое вальяжное место гимн СССР. Пацанва же вместо стиха Михалкова и Эль-Регистана распевала текст, начинавшийся со слов:
Союз нерушимый,
Голодный и вшивый…
Можно подумать, что у нас там тогда процветала свобода слова. Полагаю, что нет. Вот вам картинка из моего детства. У меня сызмальства выработалась привычка, занимаясь чем угодно, мурлыкать про себя или чуть слышно какую-нибудь случайно подвернувшуюся песенку. Однажды, что-то (не помню что) делая руками, я не заметил, что передо мной стоит папа.
- Ты что сейчас произнес?! – тихо, но зловеще спросил он.
- Ничего.
- Ты какую песню пел?
- А! «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки».
- Нет! Ты пел не «казаки», а «кулаки»!
- Что ты, тебе послышалось.
- Нет, не послышалось. Ты что, сын какого-нибудь подкулачника?
Лицо у папы было бледное, я почувствовал, что-то нехорошее произошло, но не мог понять, что. Ведь я не знал, что «кулак» обозначает нечто иное помимо того, чем дают в морду. Тем более непонятым было слово «подкулачник».
Вскоре во всем этом я разобрался и почувствовал, в каком кошмаре жили мои бедные родители. А вольнодумный пацанячий фольклор был выражением прекрасной и счастливой детской свободы. И еще отображением истинного отношения к «элите» электората, то бишь народа. Частицей которого я с самого малолетства инстинктивно хотел быть, и стал ею, получив полагающуюся ей, частице, долю имманентного несколько снобистского чувства внутреннего превосходства над «элитой». Над начальством.
Вот в этом мы с Галиной совпали один в один.
…Несколько страниц назад были приведены цитаты из ее публицистики. Я взял их из книги «И вся остальная жизнь. Статьи. Интервью. Заметки», которую сам составил и которая вышла в 2012 году. Хочу рассказать маленькую историю, связанную с этой книгой. В том же году в Центральном доме литератора состоялся вечер памяти Галины Щербаковой. «Эксмо» великодушно выделило на это мероприятие за свой счет очень приличное число экземпляров этой отлично изданной книги. Через некоторое время мне позвонил Игорь Ильич Дуэль, весьма авторитетный среди московских литераторов и журналистов человек. Не говоря о его послужном списке («Литературная газета», «Новый мир», «Обозреватель» и т. д.) и многих литературных премиях, достаточно напомнить, что он один из создателей писательской организации «Апрель», первый заместитель главного редактора славного альманаха под тем же названием. Дуэль тогда сказал:
- Я прочитал книгу, подаренную на вечере в честь Галины, и обнаружил, что она - политический публицист редкой глубины и смелости. Я хочу про это написать.
Он написал, как всегда, блестяще. Все прочитавшие его рецензию говорили об этом. Но никто в Москве ее не напечатал.
Вот как это было в одной из очень смелых и свободных (?) газет. Как у нас принято? Рукопись отдали наиболее знакомому нам сотруднику. Тот со своей рекомендацией передал ее заведующему «профильного» отдела. Заведующий сказал: конечно, надо публиковать. Но, очень разумно добавил он, пока ничего не обещай автору. Главный прочтет, тогда и скажем. Главный прочел – сказали: пойдет на следующей неделе.
Прошла неделя, вторая, третья. Один месяц, другой… И тогда заинтересованные лица спросили: в чем дело? Ответили: материал хороший, но не совпадающий со стилистикой издания. Другими словами: «не в формате». Такая же история приключилась в другой газете, такой же свободной, но чуть менее смелой.
Тогда автор сказал мне:
- Ну, и ладно. Отдам в журнал… Я его кое в чем не раз выручал. Не откажут.
И что? А то. Сказка про белого бычка. Или, если угодно, снова день сурка. Зав. отделом отвечает: конечно, напечатаем. Но… все же надо посоветоваться с главным. А главный на сей раз не стал разводить теорию о «формате», а сказал откровенно:
- Мы же едва сводим концы с концами и ищем, кто бы нас материально поддержал. А если мы опубликуем это, у нас и то, что есть, отберут.
И тогда я, тупой, наконец-то понял: дело в основном не в том, что ныне написал автор рецензии, а в том, что писала десять и более лет назад Галина Николаевна. Для проверки версии отправил по электронной почте рецензию еще в две газеты людям, заведомо хорошо относящимся ко мне. Результат: ни гугу.
Я понял, как отстал за несколько лет вне службы в СМИ от духа общественной жизни. В 2007 году я писал в газете «Жизнь гражданина России» в статье о журналистике:
«Президент много чего говорит, однако знаковыми становятся именно такие, как бы вырвашиеся из глубин души фразы и словечки, которые для государственной челяди становятся смысловыми маячками гораздо более важными, чем парламентские послания и видеоклипы из разных резиденций с публичной раздачей ЦУ членам кабинета.
…Такие фразы – они в русле изначального озлобленно-неприязненного отношения к прессе в случаях, когда та пытается раскрыть рот на темы некомпетентности, алчности, вороватости, дурного нрава представителей, органов и, так сказать, контингента властей предержащих. Верно сказал В.В. Путин про Политковскую: «Эта журналистка была острым критиком действующей власти». И будь это сказано президентом США или премьером Великобритании, то звучало бы как похвала: острый критик власти – значит, добросовестный радетель за страну. Наш же президент - воспитанник советской юридической школы. И, скорее всего, поэтому ключевым обозначением его «эпохи», наряду со 2-й чеченской войной и «делом Ходорковского», в истории останется аббревиатура НТВ.
Что может быть показательней беспощадной войны всех ветвей власти во главе с президентом на белом коне против, может быть, лучшей в мире телекомпании с набором уж точно журналистов самого первого ряда? Такие эпопеи остаются в учебниках на столетия. НТВ, как когда-то декабристов, не удалось повесить с первого раза. Но, в отличие от них, со второго раза – тоже. С беспримерной последовательностью и злобностью за талантливыми людьми охотились сначала на НТВ, потом на ТВ-6, потом на ТВС.
…Можно долго перечислять, что у нас было и чего не стало. Что касается отношений власти, общества и прессы, то, думается, можно сказать так: мы от зачатков свободы слова вернулись к гласности 1986 года (что вроде бы и не так плохо по сравнению с тем, что могло быть или будет).
С одной разницей. Тогда журналистов не убивали. А сейчас мартиролог уж очень длинный. Но и это совсем по-советски: «Если враг не сдается, его уничтожают» (М.Горький).
…Признаем честно: «враг» уже сдается, и еще как».
Судя по частной истории с рецензией Игоря Дуэля, конечно, сдался. От благолепной метки 86-го года ситуация во многом откатилась к сусловским канонам «стабильности» и тошнотворного суесловия, при которых Путин, как Брежнев или, еще противней, Андропов, становится фигурой неприкасаемой. Только этим можно объяснить феномен всеобщего «неформата» в общем-то безобидной заметки Дуэля.
Вот ее фрагмент с цитатами из текстов Галины (Игорь Ильич, как очень опытный автор, старался не брать ее наиболее жесткие характеристики).
«Кто, по мнению писательницы, виноват в сложившейся столь печально ситуации? <…> …И конечно нынешний глава государства, получивший от писательницы остроумное прозвище «президент-резидент». Он «правды не скажет. Не этому учили его в любимом учреждении. Да и кто мы для него? Лишняя забота. Хорошо бы, по Платонову, остатки населения вывести сколь возможно далеко, чтобы они заблудились».
…«Дорогая (в смысле обходишься дорого) власть! Президент батюшка! Признайтесь и повинитесь – вам с этой страной с ее непредсказуемым климатом и народом не совладать. Зовите варягов. Не хотите американцев (гордые мы в своем рвении, ну и черт с ними, обойдемся без янки), зовите на службу за хорошие деньги японцев, южных корейцев, немцев, финнов, испанцев, тех, кто попал в западню, но сумел из нее выходить. Нам нужны спецы по всем отраслям, кроме, пожалуй, культуры. Сам президент пусть таковым и останется и прослеживает узким гебистским взглядом, как варяги… поставят страну на санацию. Ты останешься в веках, президент, а народ, вымытый, накормленный, а главное обученный варягами делать все по уму, по-честному, своими руками, мозгами и смекалкой, станет звать тебя Владимиром Красное Солнышко».
Под текстом стоит дата - 2001 год. Но и описание положения, в котором находится Россия, и предложенный автором план выхода из помойной ямы вполне подходит и ко дню нынешнему. Даже президент тот же самый – «с узким гебистским взглядом». Одно удивляет: как такого рода сентенции не вызвали ни тогда, когда были написаны, ни позднее гневных отповедей кого-то из президентских опричников. Скорее всего потому так вышло, что как ни выворачивай наизнанку факты, не найдешь такого, чтобы годился для возражений Галине Щербаковой. Да и легко полемизировать с теми, кто придерживается в общем примерно тех же правил игры, что и команда президента – с людьми кооператива «Озеро» или с «людьми вертикали», как определяет их Щербакова. А сама Галина – «человек горизонтали», придерживающийся совсем иной системы ценностей, чем «вертикальщики» самых разных цветов и оттенков. Семья, дети, круг близких по духу людей – вот основная сфера ее интересов. Попробуй что-нибудь против этого рявкни в пользу вертикали, и слова твои бумерангом отлетят тебе же в физиономию. Да и трудно отыскать смельчака, способного к тому же возразить столь острому перу, публицисту, легко укладывающему на лопатки даже самых изощренных в казуистике современных российских государственников».
Тут я еще раз с удовольствием вспоминаю имя Егора Яковлева. Именно в его «Общей газете» напечатаны большинство публицистических, полемических заметок Галины. При мне у нас дома раздался памятный телефонный звонок. Оказалось, Егор Владимирович просматривал верстку своей завтрашней газеты, прочитал в ней статью Галины и тут же захотел поговорить с незнакомым ему автором.
- Понимаете, Галина, я ведь создал газету именно для таких материалов, как ваш. И никак не могу это втолковать своим сотрудникам. Мне редко нравится то, что они приносят.
Ему в 2000 году сплошь и рядом приносили прекраснодушную интеллигентскую веру в Путина как в молодого прогрессиста, а Галина (как и Егор) своим писательским чутьем угадывала в нем клинического властолюбца, безжалостного и злопамятного. И писала: «Сколько людей загублено, сколько детей не выучено, сколько больных не вылечено. Но какое это имеет значение, если президент у нас ходит красиво, как парусник... У меня ощущение жизни в доме, на крыше которого поселился сумасшедший с гранатометом. Это сумасшедший с глобальной идеей - он строит вертикаль. Что такое вертикаль - я не знаю. Ну уж точно не еда, не дом, не мир, не образование, не любовь».
Выделенные жирным двадцать слов – то, что напечатал Яковлев в 2000-м и что попросило меня выкинуть издательство в 2012-м. Я выкинул. Галя не стала бы. И, может быть, книга не вышла бы.
Я был не прав? Или прав?.. Не у кого спросить, три года, как не у кого…
…Осталось сказать, чем кончилась история с рецензией. Убедившись за семь месяцев, что она непроходима в России, мы, вполне естественно, обратили свои взоры на ее верного наперсника – Америку. Там есть русскоязычный журнал «Чайка», где постоянно сотрудничает наш друг Сергей Баймухаметов. Перед самым новым 2013-м годом он предложил «Чайке» рукопись Дуэля, 7 января по просьбе редакции я подобрал к ней фото, а 15 числа рецензия «Человек горизонтали» увидела свет. Почти одновременно с получением главным редактором журнала Геннадием Крочиком моего благодарственного письма: «Я тронут Вашей готовностью напечатать рецензию на книгу Галины Щербаковой. Это и еще один пример профессиональной солидарности, которых становится все меньше».
II
Нет, чувствую, никак не удастся мне уйти от темы журналистики. А раз так, то невозможно хоть чуть-чуть не рассказать о первом журналисте в моей жизни. И в нашем роде.
…- У, Геннашка, какой вредный! Не едет и не едет!
Так говорила моя тетка Регина, младшая сестра моей мамы. Вообще-то меня водили в детский сад. Но, не знаю, по какой-то причине, был период, когда этого не делали, и со мной в качестве взрослого сидела она. Мне было шесть лет, а ей около двенадцати. И с нами случалось много приключений. Например, мы бесконечно воевали с крысой, которая, видимо, считала себя хозяйкой нашей кухни. Однажды при готовке «алабушек» (так мы их называли), котлеток из прокрученных в мясорубке картофельных очисток, Регина обожгла руку. Не успела зажить травма, как мы зачем-то полезли в розетку, и с треском вырвавшееся из нее электрическое пламя охватило ей ту же руку! На этот раз она долго ходила в бинтах.
А «Геннашка» был мамин и Регинин брат, который написал, что скоро вернется после госпиталя с войны, но возвращение все как-то затягивалось. Я тоже с нетерпением ждал незнакомого мне родственника. Ведь он был настоящий фронтовик, значит, герой!
Ждал я не напрасно. Дядя Геша привез мне кучу драгоценных подарков. Офицерские погоны, военный ремень, пулеметную ленту с гильзами и металлическую гофрированную коробку от противогаза.
Для других моих многочисленных родственников с приездом дяди Гешы возникла проблема, я не раз слышал, как ее обсуждали: куда устроить на работу бывшего фронтовика, прошедшего две войны, финскую и немецкую. После первой, мне говорили, он убавился в росте на один или два сантиметра: лыжнику пулеметного подразделения полагалось носить на себе свое вооружение. После второй он вернулся на костылях – с одной ногой. О работе по специальности, техником-металлистом, речи не было.
Геннадий Алексеевич решил проблему сам, немало удивив окружающих.
Здесь я не без гордости могу сказать: все мои старшие родственники были одаренные люди. Дед Алексей Григорьевич самоучкой стал инженером, к тому времени, о котором я рассказываю, был главным механиком Медеплавильного комбината. А до ВОСРа, помимо инженерной работы, был регентом церковного хора в храме Верхней Туры. Его недюжинные музыкальные способности передались всем его семерым детям. Моя мама, учительница математики, была бессменным руководителем хора в школах, где она работала. А когда возникла идея создать общегородской учительский хор, она его за год сделала лауреатом областного смотра художественной самодеятельности.
Я радовался этому и досадовал, когда такой хороший коллектив выступал в областном центре (я был первокурсником УрГУ) с маловыразительной «патриотической» песней:
Могучий Урал, советский Урал,
Ты в битвах всегда побеждал, наш Урал!
Богатырь, в суровую годину
Отстоял родной страны покой и честь!
В голове и в душе моей звучало множество прекрасных, веселых и печальных песен и романсов, услышанных за нашим семейным столом. Хотя бы неувядаемый «Вечерний звон»…
Первые два слова чуть слышно, как бы крадучись, выпевали тетя Нюра, тетя Лена, тетя Мира (когда приезжала в гости из Свердловска). К ним прибавлялась моя мама – вечная «втора» (ведущая мелодию на терцию ниже), и дальше вступали все, кто хотел, участники застолья. А дедушка Алексей Григорьевич и дядя Геша, как два полнозвучных контрабаса, в конце каждого такта исполняли - «Бом-бом», что создавало звуковую картину того самого колокольного звона. Особенно мне нравилось, когда под занавес куплета они немного задерживали темп и выдавали свой «Бом-бом» с чуть заметным «опозданием». От этого захватывало дух.
…Каким путем искал дядя Геша линию своей новой жизни, к своему стыду, не знаю. Он просто сообщил своим родителям, что будет работать в редакции газеты «Красноуральский рабочий», ответственным секретарем.
Кто его знает, стала ли бы журналистика решающей в моей жизни, если бы в нашем захолустье (это моя нынешняя характеристика; тогда-то я любил место своего обитания, невзирая ни на что, можно сказать, трепетно) не случилось нечто… Затрудняюсь даже обозначить точно, что именно.
Все началось с приезда в город нового редактора газеты. Его звали Иван Вихрев. Так бывает только в американском кино: появляется незнакомый герой – и что-то в жизни и умах населения киносюжета заметно сдвигается. Умудренные советским и постперестроечным бытием, мы знаем, что пресса у нас кардинально преображается только вслед персональным переменам в начальстве. Я не знаю, хотя бы в силу малого своего возраста тогда, были ли пертурбации такого свойства в Красноуральске или области в конце сороковых годов. Но помню, как мои старшие земляки, тоже вряд ли доки в тонкостях тутошней региональной политики, восхищенно-озадаченно говорили: «Ну, редактор! Как разделывает начальство!»
Местная газета взяла за правило каждую неделю печатать острый фельетон. Народ радостно бурлил. А уж когда появился разоблачительный материал про Медьпродснаб и лично товарища Бушуева, казалось, это был второй день победы. Читатели спрашивали друг у друга: «А кто же этот Алексеев?» А я знал: автор фельетона Г.Алексеев – мой дядя Геша, Геннадий Алексеевич Бадьин. Иван Вихрев был в основном непишущий редактор. Главной литературной силой печатного органа был его ответственный секретарь. И кто бы это мог предположить, глядя лет десять назад на статного, с руками прирожденного умельца-слесаря, выпускника техникума по металлообработке.
Вскоре к Вихреву и Г.Алексееву прибавился выпускник Уральского университета Леня Коган. И я имел возможность видеть, как они дружно и весело работали. И еще бы я сказал, интеллигентно. Это проявлялось и в стиле их общения, дружески-подтрунивающем, и в культе шахмат, и склонности к литературным шуткам и аллюзиям. Я успел все это оценить, поскольку не очень часто, но появлялся в редакции. К классу седьмому я уже прошел увлечение и разочарование и астрономией, и дипломатией. Пришла пора журналистики.
Я стал так обуреваем, говоря словами Ильича, благородной страстью печататься, что, вычитав в календаре об очередной годовщине покорения пика Ленина Виталием Абалаковым, придумал некий праздник – 15 лет советского альпинизма и сочинил к нему компилятивную статейку.
Ее опубликовали!
Мой следующий опус был оригинальный. Впервые в городе на улице Урицкого, перед зданием госбанка поставили уличную новогоднюю елку. Она была украшена разноцветными переливающимися лампочками, а рядом была сооружена горка для катания. Этому нововведению был посвящен мой первый в жизни репортаж. Конечно, из него были выброшены всяческие восхищения и мои замечательные красивости. Но я и так был доволен.
Мой первый гонорар составлял, я запомнил, тридцать три рубля двадцать копеек. Для меня он был не важен. Главную прелесть в моей будущей профессии я видел в том, что какие-то мои личные, казалось бы, вовсе незначительные соображения, не обладающие ни малейшей обязательной силой, пройдя ряд волшебных изменений редакционного и типографского толка, становятся чем-то объективным, реально существующим, могущим иметь воздействие… Я и сейчас, пройдя жизнь в этом ремесле, не перестаю удивляться такому волшебству.
Интернет – не то. У меня самого уже несколько лет выходит небольшой интернет-журнал «ОБЫВАТЕЛЬ – страж здравого смысла», зарегистрированный как СМИ. Я им дорожу. В данный момент у него насчитывается около 2500 посетителей в месяц. Как можно не дорожить от 50 до 500 (бывает и так, и этак) ежедневными читателями - я их так называю? Но все же печатная пресса – это буквы. Это шумерские таблички, пусть даже не прочитанные. Но начертанные! А весь великий Интернет – не буквы, а сигналы, записанные в двоичной системе. Для меня они как бы проба, зап. книжки, семейный архив человечества с его черновиками, безответственной блажью, исканиями. А шумерские таблички – устоявшиеся (и устоявшие!) тексты. Как и берестяные грамоты.
Зачатки этого понимания коснулись моего сознания, когда я увидел людскую реакцию на маленькую газетку. Я знал, что ее делал дорогой мне человек, мой родственник. Знал, что он классно играет в шахматы, помнит кучу уморительных фронтовых солдатских песенок, но… четкие газетные столбцы делали его в моих глазах личностью, стоящей на взгорье и что-то видевшей дальше и вернее других. Если подумать, то именно только так необходимо относиться к людям, по стопам которых намерен прокладывать и свой собственный путь.
В начале пятидесятых Вихрева перебросили в какую-то другую точку области. После этого дядя Геша и Леня Коган тоже довольно скоро покинули Красноуральск. Забрав своих домочадцев, они перебрались в соседнюю Кушву – там выходил, естественно, «Кушвинский рабочий». Я один раз был у них. Той атмосферы, какая была в «Красноуральском рабочем», там не было.
А потом я и сам уехал. В УрГУ. Поступление в вуз тогда для многих молодых людей из «глубинки» означало необратимый разрыв с ней.
Так случилось и с нами, со мной и Галиной…
III
…Но если мой североуральский жизненный восход был отсечен тактовой чертой времени от последующего существования, то с Галиной ее Донбасс остался навсегда - в ее главной работе. В последнем тексте, написанном по просьбе издательства (предисловии к книге рассказов, из-за которого мы с ней чуть не повздорили), написано:
«Улица называлась Красной. Когда-то давным-давно, когда маленький шахтерский поселок и не мыслил себя Горловкой или Константиновкой, какой-то безумный романтик-коммунист назвал крохотное место в два обхвата Нью-Йорком. Была ли это месть Америке или вызов ей же – не знаю. Но одновременно в десяти километрах от бурьянного Нью-Йорка, в виде его спутника, поставили красные кирпичные домики с окнами-амбразурами, а улицу назвали Красной. Но это все ерунда. Главное – впереди.
Там, где кончались красные домики, выросла тюрьма, с колючкой, вышками и выстрелами в ночи. А за тюрьмой опять продолжалась улица – но уже - Короткая (хотя вроде бы и продолжение Красной). Наша хата была третьей от тюрьмы, пятой от больницы, четвертой от школы – но уже по другую сторону. Но все это было Короткой улицей, она же дорога на кладбище. Ну, не прелесть ли? Всё вместе – три минуты налево, а две направо. А за десять километров нелепый Нью-Йорк с его градирней, которую мой детский ум превратил в Анридарг, что и стало началом моих литературных фантазий и словесных перевертышей. Я меняла местами мертвых в гробах и тех, кто стоял на вышках, школьники у меня ходили строем и только с правой ноги, а пионерский салют отдавали за ухом. Можете сколько угодно смеяться, но все мои стародавние и сегодняшние рассказы – всё с той же коротенькой улицы, по которой бегали собаки, а я их называла Львами.
Моя Короткая, Красная улица живет во мне каждым своим кирпичиком, а каждый человек с нее описан до вывернутых карманов. И книга эта могла вполне называться Рассказы короткой улицы.
…Я давным-давно съехала с Красной и живу в Москве, но вы будете смеяться, на расстоянии трех большущих домов от меня тюрьма, четырех – больница, школа просто рядом, а на известное в округе кладбище ведут аж две дороги. Где-то – подозреваю – скрывается градирня, я страсть как ее ищу, потому что остался не описан Нью-Йорк с мальчиком Володей Куликом и с огромной его мечтой, которая была, но о которой я напрочь забыла. Но знаю – стоит найти градирню, и рассказ явится ниоткуда и уже его ничем не заломаешь».
А заканчивается предисловие так:
«И вот они все перед вами. Рассказы Короткой улицы и Москвы, Ростова и Волгограда, Челябинска и Свердловска. От каждого города свое биение.
Но не в географии тут дело. Безусловны только рассказы Короткой улицы. Они корни, они львы-собаки и пионеры с правой ноги».
Еще в 1981 году, как истинные журналисты, сотрудники «Дзержинского шахтера» дотянулись до Галины и взяли у нее заочное интервью. В нем она, к примеру, сказала:
- …Мечтаю сделать сборник «Рассказы короткой улицы», куда, кроме повести «Справа оставался городок», войдут несколько рассказов и «Случай с Кузьменко». Все — дзержинские. А улица Короткая — улица Красная, на которой я жила... Если бы вы знали, как горько, что ни дедушка, ни мама — никто так ничего и не прочел. Мама так и умерла с сознанием, что в моем писательском эксперименте минусовый результат...
Я была потрясена, какая она — моя улица. Какое нравственное здоровье в отклике на горе. Какие соседи! Какие соседки! На этой улице три соседа ухаживали за парализованными женами. И не один день. Годами... У меня неоплатный долг перед моей улицей. На ней, что ни дом - норов, что ни человек - личность, что ни история — то смех и слезы. И все это вроде так и надо. «Тю, Галуся! — говорила моя «буся». — Шош тут такого?..» У каждого свое Михайловское, свои Сростки...
А я бы даже добавил в данном случае: и своя Йокнапатофа как источник творчества. Чтобы, на всякий случай, избавить кого бы то ни было от соблазна обвинить меня в нахальной попытке сравнить мою героиню с великим американцем, я просто приведу завершение публикации в «Дзержинском шахтере».
«Вот так Галина Щербакова с улицы Красной, что неподалеку от ЦГБ им. Ленина, вплетает яркую ветвь в венок славы нашего города. Живешь в маленьком шахтерском городке, а пульс самой Родины то отзовется исключительным рекордом земляка-шахтера или славными успехами машиностроителей, химиков, то радостно застучит во взлете актерского или писательского дарования дзержинца. Если умеешь слушать все это самим сердцем, то и в своем собственном старании, пусть скромном и будничном, непременно услышишь биение сердца своей Родины».
Надеюсь, понятно: это абсолютно невозможно комментировать без риска обидеть или простого человека, или писательницу, или Родину. Но и ясно, что никому не придет в голову сказать что-то такое же о нашем любимом Уильяме Фолкнере. Так что никаких сравнений!
Когда я увидел эту публикацию более тридцати лет назад, ничто меня в ней так не удивило, как подпись под ней: Т.Тристан. И еще тогда появилась мысль с кем-нибудь поделиться забавным соображением о чем-то невидимом и неугадываемом, что прядет нити наших судеб. Уверен, она время от времени приходит ко многим, но редко кто ее выражает вслух по причине ее утилитарной бесполезности, а также чтобы не прослыть каким-нибудь Пустяковым из стишка Маршака, которому уготован «стыд и позор».
Тамару Тристан я знал с 1955 года, с первого дня учебы в университете. Точнее сказать, почти не знал. Тамара была старше большинства из нас. Приехала откуда-то из Молдавии или Западной Украины. Была очень скромной и как-то сторонилась всех. От наших девчонок исходили какие-то смутные сведения о драматических событиях ее прежней жизни…
Впрочем, к моей ненаучной версии плетения кружев фатума это не имеет отношения. А имеет – предположение, что мойры, древнегреческие старушки-богини судьбы, не столько испытывают муки творчества, подобно Василию Кандинскому при очередном развороте линии или ярком мазке, сколько предпочитают вставлять в картины предстоящих жизней уже когда-то найденные, шаблонные элементы. Как в хорошо подобранной настольной игре или мозаичном панно.
Итак, когда-то были свиты в одну две пряжы будущности – моей и Гали. И вот в хитросплетениях этой игры возникла необходимость, чисто служебная, в фигуре типа «журналист». Мойра помнит, у нее уже есть такие фигуры, аж две группы бывших студентов УрГУ. Не глядя, берет одну из них, при этом забывая, что при слиянии двух судеб в одну элементы двух настольных игр тоже смешались вместе. И в результате я с удивлением обнаруживаю мою старую знакомую в летописи судьбы Галины.
Просто случайность? Допустим.
…Как-то так все сложилось, что подобия постоянной связи с кем-то из однокурсников у меня сохранились только с Людой Глушковской и ее мужем Юрием Зотовым (Эстония) и Леной Фроловой (Екатеринбург). С последней мы обмениваемся телефонными звонками по случаю нового года и дней рождения друг друга. Поскольку это происходит из года в год много лет, такие отношения мы вправе называть дружбой.
Но вот что произошло 22 года назад, 19 августа 1991 года. Так называемый путч. Галина на площади перед Белым домом. (Я, к сожалению, нет. Не могу покинуть «Огонек». Главный редактор – где-то в США, его первый зам – в Лондоне, приедет только к ночи, просто зам – бог знает где. И я, еще один зам, оказался, как поется в народной песне, большим-на̀большим.) Мы встречаемся дома поздно вечером. Никто не знает, что будет завтра. И как-то между слов мелькает сведение о том, что на площади Галина случайно познакомилась с парнем из Свердловска. Его зовут Моисей Аксельрод.
Как Моисей Аксельрод?! А вот так. Это муж Лены Фроловой. С тех пор почти каждый год вплоть до своего ухода из жизни Моисей 19 августа звонил Гале – они так отмечали годовщину своего знакомства.
Еще одна случайность. Именно такая, которую Галина не посмела вставить в свой рассказ из боязни быть обвиненной в неуклюжей выдуманности сюжета. И опять смешаны «корзины» двух судеб. Может быть, уже есть повод задаться вопросом: для чего? Предположим, для того, чтобы писательница, не раз в своих сочинениях обращавшаяся к тем событиям, острее ощутила их необыкновенность, или как сейчас принято говорить, эксклюзивность - короче, выходящими из ряда вон…
Я могу привести еще подобного рода любопытные столкновения фактов. Мне кажется, их смысл в том, что они в чехарде сменяющих друг друга, казалось бы, ничего не значащих будней с определенной регулярностью напоминают нам: все так. Все сходится. Разыгрываются, как в хорошем романе, логические завершения некогда возникших жизненных фабул – они же, как на листе Мебиуса, - и начала пока еще никому не известных игр, затеваемых мойрами, которые опять, наверное, допустят удивляющие нас совпадения, по теории вероятностей - маловозможные.
Позволю себе вспомнить еще лишь один случай повтора одной и той же путевой вешки на колее моих дней, казалось бы, на что-то указывающего, или намекающего, но… плохо доступного для объяснения. Я уже писал о том, что первые писательские страницы Галины появились в Волгограде в дни специально взятого для них отпуска. Этот случай имеет непосредственное отношение к самому нашему появлению в городе-герое.
…В журнале «Журналист» за 1975 год я нашел свою статью «Слово о желанной кабале». По первым ее двум фразам можно понять, о чем речь.
«В душе едва ли не каждого настоящего журналиста есть уголок, куда он не допускает никого — ни товарища по работе или рыбалке, ни жену, ни даже редактора в минуты самой рискованной откровенности. В этом уголке живут мечтания и страхи, надежды и сомнения, счастливые предчувствия и опасения, связанные с тем, что журналист написал бы, если бы…».
В конце этой статьи есть такой пассаж: «...Как-то я был на партийном собрании одной молодежной газеты. На нем зашел разговор и об ответственном секретаре редакции. В частности, прозвучали две такие фразы:
- Секретарь наш набирается опыта, работает все лучше, но припомните, когда он в последний раз выступал в газете? Не случится ли так, что мы заимеем неплохого ответсекретаря и потеряем журналиста?..
С тех пор прошло десять лет, но я до сих пор благодарен друзьям за те две фразы. Ибо тем ответсекретарем был я».
Все - формально - здесь истинно, как и бывает в писаниях профессионала. Но немножко и не истинно, как часто случается у профи, стремящихся к логическому изяществу смысловых линий. Всякие оговорки и комментарии его нарушают. В данном случае некоторое лукавство было заложено еще в самой жизненной основе сообщения. Дело в том, что я сам первый обеспокоился тем, что моя фамилия редко появляется на страницах. И поделился этим беспокойством с Сашей Яковенко, секретарем нашей парторганизации, с которым был в большой дружбе. Тот принял такое сведение как благодатный факт как бы и для самокритики внутри ячейки (что очень ценилось в партийном быту), и для проявления истинной заботы о партийном товарище.
Сегодня журналистское сообщество стало более многосоставным по специальностям и функциям. Оно спокойно допускает в своих рядах наличие менеджерского сословия – людей не пишущих, но с разных сторон обеспечивающих плавучесть редакционных структур. Тогда все было по-другому. Хорошо пишешь – ты журналист, и у тебя есть возможности для карьерного роста, вплоть до главного редактора. Или – до прорыва в «вышестоящую» газету: из многотиражки – в городскую или областную, из области – в республиканскую или союзную отраслевую, а то и сразу - в центральную прессу. Были, конечно, и иные пути – через партаппарат (комсомол). Но в нашей братии даже мысль об этом казалась постыдной.
Я был увлечен секретарским делом. На фоне быстро меняющихся начальников, с опаской вступающих на территорию газетной технологии во всевозможных ее аспектах, было в кайф ощущать себя в деле специалистом-мастером, без которого, ну, никуда… Но я хорошо помнил самое начало своего пути к этой работе, а именно – очерк «Персидская песня», написанный на тумбочке в заводской гостинице «Ростсельмаша». И как после его публикации редакционные завотделами норовили нагрузить меня своими заданиями.
Внутри меня поселилось беспокойство: а как дальше? Всю жизнь совершенствовать наш любимый «Комсомолец»? Пробиваться в редакторы? Я этого, ох, как не хотел. Выслушивать в обкомах ругань на газету всяких всемогущих, с бледным лицом возвращаться в редакцию и снова делать номера с трепетом: что еще может вызвать гнев бонз?.. Я не находил ответа на теребящий меня туманный вопрос, но… тем не менее пришел к очень здравому и четкому выводу. Необходимо вернуть свою полную боевую готовность. В первую очередь, грубо говоря, в щелкоперстве. Строчкогонство само по себе не есть в нашей профессии недостаток. А вот отсутствие умения выдать в необходимый срок четко обозначенное количество текста – это профнепригодность.
Мне удалось найти самое подходящее в городе место для упражнений «в прыгучести» (выражение Галины) – зав. отделом информации «Вечернего Ростова». Туда и ушел сразу после нового (1965) года. Галина, услышав от меня об этом, только сказала: «Ох…» Она знала, что обсуждать решения, касающиеся моей работы, не надо. Действительно, за всю жизнь я на этот счет никогда ни у кого не просил совета, ни по важным для биографии вопросам, ни по мелочам.
Должность и впрямь была «горячей». Помимо занимательных репортажей о том, что волнует публику не просто в большом городе, а именно в «Ростове-папе», надлежало каждодневно заполнять информационные разделы «Вчера вечером» и «Сегодня утром». За полгода, которые я провел в «Вечерке», удалось пройти славную репортерскую школу. А главное, надолго растаял жирок душевной уютности, быстро нарастающий под редакционно-домашними сводами и часто перерождающийся в опаску перед живой, новой действительностью. Я ощущал: мои профессиональные приспособления – и к жизни, и к ее газетному выявлению – и возродились, и обновились. Как это в статье «Слово о желанной кабале»: у меня вновь появились «счастливые предчувствия и опасения, связанные с тем, что написал бы, если бы…».
…Всякие неожиданные «если бы» ко мне сейчас являются чаще всего по электронной почте. А тогда – неизменно по служебному телефону.
Посреди рабочего дня, когда в наших двух смежных информаторских кабинетах царила деловая толчея, басовитый и, как мне показалось, вальяжный голос в телефонной трубке спросил меня:
- Вы Александр Щербаков? Я Владимир…
И незнакомец назвал фамилию, которую я впервые услышал ровно десять лет назад.
…На другой день после школьного выпускного вечера мы с моим лучшим другом Колей Тамбуловым поехали в Свердловск, в университет – я сдавать документы для поступления на журналистику, он – на историю. Правда, Коля назавтра резко изменил нежно любимой науке истории с новой дисциплиной под названием «теормех». Это – целый отдельный рассказ, как за какие-то полсуток можно дважды (!) поменять решение насчет своей будущности, став в итоге одним из главных в мире расчетчиков космических и баллистических ракет, лауреатом ленинской и государственных премий и т. д. и т. п.
За бытность мою в Москве я видел его лишь три раза (а в Челябинске ни одного, хотя бывал в командировках в городе Миассе, где он жил и работал, – так было тщательно упрятано и закамуфлировано нечто самое драгоценное, что только было у советского народа, - великий ракетный секрет), три раза он прилетал в столицу на самолете своего предприятия – опять же полутайно – где-то, как-то забирать знаки своего лауреатства и высокие государственные награды.
(Не хотелось прерывать нить, но не могу отказать себе в удовольствии хотя бы чуть-чуть представить образ моего самого близкого друга в восприятии моей любимой женщины-писательницы.
Дело происходит в романе «В поисках окончательного мужчины» [«Армия любовников»]. К героине Ольге является в гости дальний родственник по линии отца. Для начала автор дает ему фамилию… Тамбулов. Но, дабы сразу отмести какую-либо связь с истинным человеком под таким именем, сходу, можно сказать, уродует его внешность: «Это был большой бородатый дядька в больших мятых вещах». Мой друг всегда отличался, можно сказать, древнегреческим изяществом – по паспорту и по крови он грек – и европейской элегантностью.
Но далее… «…от него пахло хорошим одеколоном, который был использован не раз-два, а уже вошел в природу тела, в нитки вещей. Это было приятно и неожиданно. Оказалось, что он замдиректора большого института, которого нет ни в одном справочнике, что сам он уже сто лет членкор…» На самом деле, по жизни Коля был заместителем главного конструктора ракет. А вот то, что было дальше в описании персонажа, нисколечко не противоречит моему всегдашнему восприятию Коли Тамбулова, дорогого мне человека. И тут я только развожу руками: видимо, это и есть истинное писательство - каким-то нечеловеческим, можно сказать, чутьем познать, как ведет себя твой, уже, получается, вовсе не придуманный герой в придуманном все же сюжете, что и, главное, как говорит…
«…Вечерами они разговаривали. Его интересовало, как выкручивается в этой жизни Ольга, платят ли учительницам зарплату вовремя. Он рассматривал дорогие безделушки, что стояли в серванте, хорошие картины, которые она давным-давно купила у одного теперь успешного художника, который был в свое время полунищим и стоймя стоял на морозе в Битце, чтобы продать хоть что-нибудь. Ольга покупала тогда интуитивно, завороженная мистическими сюжетами, явлениями фей и гномов, а больше всего солнцем, которое почему-то существовало на картинах в образе луны. Странный лунно-солнечный свет был почти вязким, но не мешал принцессам и принцам быть легкими и воздушными. В этом была некая странность и неправильность, но она-то и завораживала. Были случаи, когда ее просили протереть картину, подозревая на ней густоту пыли, хотя это была густота света.
Тамбулов разглядывал все тщательно и тоже провел по картине пальцем.
- Здесь отсутствует притяжение земли, а есть притяжение света. Но это не свет солнца...
- Луны, — сказала Ольга.
И не луны... Видите точку слева? Свет идет оттуда... Вы чувствуете? Движение цвета?
- Я просто люблю эти картинки. Я их не анализирую. Мне с ними тепло, и все. Это выше анализа.
- Это вы скажете детям в школе, когда покажете им «Троицу» или «Сикстинскую мадонну». Пусть они их очувствуют...»
Вот и не знаю, был ли такой разговор на самом деле в нашей жизни? Потому что эти картинки художника Игоря Реброва как были, так и есть. Но, в общем-то, вопрос праздный. Потому что верю: это – правда. Как, скажем, и такой разговорчик:
- Слушайте, давайте выпьем. Этот разговор всухую не идет.
- Давайте, — ответил Тамбулов. — Но я человек грубый, я пью водку, и чем она хуже, тем мне лучше.
- Просто вы не пробовали хорошего.
- О, женщина! Вы не знаете, чем поили раньше закрытых лауреатов. Такие коньяки, такие вина! Я отведал всего — и белого, и красного, и зеленого. И скажу вам: «сучок» выше всех марок.
Поверьте, это – словно на минуту ко мне Коля зашел. Может быть, такой диалог в нашем доме и был. А может, и не был. Не важно.)
…Итак, мы прибыли поутру на свердловский вокзал и, не теряя времени, трамвайчиком поехали в центр к круглому зданию городка чекистов, где жила моя тетя Мира. Она сама была с семейством на даче на озере Балтым, а в квартире нас ждала другая тетя – Регина, которая только что окончила филфак УрГУ и днями должна была ехать по назначению куда-то на край российской земли. Нынче же она считала своим долгом сопроводить нас в главное здание университета и проследить, чтобы в приемной комиссии с нами было все тип-топ. А мы в ответ должны были помочь ей сдать на товарной станции ее багаж.
Все втроем мы попили чай. Его вскипятили на газовой плите. Для меня и Николая, провинциалов, она была первым в ряду бытовых феноменов цивилизации, открывшимся нам в большом городе. Но не последним в тот день.
Перед тем, как выходить, Регина сказала, что хочет с кем-то поговорить по телефону. И тут нас поджидали сразу две неожиданности. Первая – наличие домашнего телефона. Испокон века, если у нас кому-то надо было позвонить – в больницу ли, на конный двор, в школу и т. п., приходилось идти в какую-то ближайшую аналогичную организацию, где по статусу должен был находиться замечательный переговорный аппарат. Конечно, мы догадывались, что у большого начальства он тоже имеется, но чтобы так вот, у обычной собственной тетки…
Еще одна цивилизационная неожиданность таилась в хитром коммуникативном дисковом устройстве на телефоне с буквами и цифрами. Мы, два отличника, быстро сообразили, что оно как-то заменяет постукивание по контактам и просьбу: «Девушка, будьте любезны, соедините нас с баней!» Но как оно работает и, главное, как с ним, в случае необходимости, поступать, пока оставалось тайной.
Я невольно прислушивался к разговору Регины. Она рассказывала, видимо, подруге о смутном чувстве, с которым направляется к предстоящей работе. О том, что сегодня поедет с Шуркой, своим племянником, в университет, и как она рада, что он будет учиться не на их затхлом отделении, а на журналистике, где всегда столько оригинальных людей. «По крайней мере, проведет пять лет интересной жизни». Так разговор Регины перетек в тему, кто из выпускников-журналистов получил какое назначение. По ее словам, повезло какому-то мэну, который поедет в Куйбышев, «к самому Разумневичу». Говорящая фамилия мне запомнилась, к тому же в речи моей тетки она тогда повторялось не один раз.
Снова с этой фамилией я столкнулся примерно через год, на переходе с первого на второй курс. При самом входе в наше университетское здание гуманитариев по 8 Марта, 62 на стене была прикреплена мебельная конструкция для помещения писем и прочей корреспонденции. Проходя мимо нее, я однажды обратил внимание, что из ячейки под буквой «Р» выдвинулось и грозит вывалиться одно письмо. Автоматически поправляя его положение, я взглянул на имя адресата и невольно задержался. Было написано: Разумневичу. К тому же почерк мне показался знакомым. Взял письмо в руки. Так и есть – от Р.Бадьиной, то есть от Регины. Из Сусумана, Магаданский край.
Я очень задумался. Почему она пишет в Свердловск, зная, что адресат в другом месте? Не располагает точным адресом?.. Можно ей помочь. Я пошел на нашу кафедру, застал там преподавателя Валентина Шандру и спросил, знает ли он, где сейчас обретается Разумневич.
- Володька-то? – ответил Шандра. – Я же с ним из одного выпуска. Большой человек – редактор «Волжского комсомольца».
Вот все, теперь можно… А что можно? Переслать письмо Разумневичу?.. Сообщить Регине адрес редакции? Дескать, ты, бедненькая, кое-чего не знаешь, а я вот разведал?.. И только теперь до меня, бестолочи, дошла логика ее поступка. Она не хотела, чтобы ее письмо вообще оказалось в том городе, где он жил. И у нее с ним не было договоренности о переписке – тогда бы она воспользовалась почтой до востребования. Но ей в Сусумане нужно было позарез написать и отправить письмо, как поется в песне «Дан приказ…», - «куда-нибудь». И, может быть, мелькнула сумасшедшая мысль: он приедет по какой-то надобности в Свердловск и, конечно, зайдет в альма матер…
Как мне сделалось жаль мою тетку-подружку. Как было бы здорово ей помочь… не знаю в чем. И какими были бы чудовищно бестактными любые попытки помощи в чем-то мне не раскрытом, но ставшим отчасти известным благодаря случаю, и, может быть, вообще в принципе никому не раскрываемом…
Я следил за этим письмом – не подевается ли оно вдруг куда-то. До самых моих каникул лежало. В сентябре его уже не было. Но вряд ли это могло быть утешительным знаком.
…- Вы Александр Щербаков? Я Владимир Разумневич, член редколлегии «Комсомольской правды». Я остановился в гостинице «Ростов». Не могли бы вы ко мне придти для одного разговора?
Самое удивительное – во мне ничто, как говорится, не ёкнуло. Будто ждал этого самого звонка.
- Конечно, смогу.
Разумневич оказался симпатичным человеком. Сразу взял быка за рога.
- Вам сколько лет?
- Двадцать семь.
- Что ж, пора заняться более серьезными делами.
- Да я не против.
- Собкором «Комсомолки» пойдете?
- Пойду. В какое место?
- Есть разные.
- Хочу сказать о важном обстоятельстве. У меня ожидается прибавление семейства. Не хотелось бы какого-то дальнего переезда.
- Так вот, кстати, Вадим Занозин, наш волгоградский корреспондент, уходит в «Советскую Россию». Давайте будем смотреть вас на это место.
- Это здорово. Но… все равно я не могу ни в чем определиться, пока не разрешится моя семейная ситуация.
- Когда это будет?
- В конце весны-начале лета.
- Ну, пока вы можете на несколько дней приехать в редакцию и пройти утверждение.
- Нет, сейчас я никуда не уеду из дома.
- Это что, так железно?
- Железно.
- Ну, ладно. Мы подождем. Как только у вас случится это важное событие, позвоните в отдел местной сети и сразу приезжайте.
Вот так, в общих чертах, мы и оказались в Волгограде. Были какие-то организационные шероховатости. Редактор «Вечернего Ростова» Петр Иванович Баландин строил козни, не хотел по-хорошему отпускать, пришлось на него пожаловаться человеку по фамилии Шкиль, обкомовскому куратору «Вечерки». Зато в Волгограде получился цирк другого рода. При первом же, как бы ознакомительном визите в город я прямо в день приезда представился секретарю обкома партии по идеологии и пропаганде Алексею Андреевичу Небензе. Тот пожелал мне успешной работы. А на другой день меня разыскали и сообщили, что первый секретарь обкома Леонид Михайлович Школьников не желает меня видеть на подвластной ему земле. Когда он вскорости уехал из города-героя в Москву на повышение, у тамошних людей развязались языки, и я узнал, какой он дремучий самодур, не зря же ему за помпадурско-чиновничью, в основном, жизнь дали 6 (шесть!) орденов Ленина.
10 мая 2013 года, в день рождения Галины, который мы по традиции отмечали в кабачке «Спасательный круг», расположенный в нашем доме (впрочем, в последнее время переименованный в «Тратторию»), я спросил мнение о Школьникове у Генриетты Перьян. Она тогда работала на Волгоградской студии телевидения кинооператором и по производственной необходимости много общалась с ним. Она сказала мне, что он очень милый человек. Сведем собранные данные вместе и получим, что милый человек запросто мог быть самодуром. И кого у нас это удивит?..
Тогда его натуру возмутило то, что, прежде чем прислать собкора, к нему не прибыл на поклон какой-нибудь ответственный работник редакции. «Как, - передавали мне его слова, - из «Правды» приезжают замы главного, из «Советской России» сам главный, а какая-то «Комсомольская правда» хамит». Я стал названивать в редакцию, но там никто к этому не хотел отнестись серьезно. «Старик, - говорил зав. собкоровской сетью Серега Иларионов, - у тебя квартира, она же корреспондентский пункт, есть? Есть. Решение редколлегии о назначении есть? Есть. Ну и начинай работать. Завтра же сходи к комсомольскому руководству, пусть тебе прикрепят персональную машину». А ответственный секретарь Ким Костенко вообще сказал: «У нас таких начальников обкомов по стране знаешь сколько? А «Комсомолка» одна. Не приставай с этими глупостями».
Глупости или не глупости, но я попросту боялся перевозить семью из только что чуть-чуть устоявшегося «мирного» ростовского обихода в изначально вздорную, чреватую скандалом обстановку. Я позвонил в стенографическое бюро «Комсомолки» и продиктовал записку в редколлегию. Дескать, такие узелки должна развязывать сама центральная редакция, а не корреспондент. И если это не будет сделано до конца недели, я возвращаюсь в Ростов. Конечно, ничего сделано не было. И, конечно, я возвратился. Для редакции это была небольшая, из типа каждодневных, досада («засада», как сейчас принято говорить). Да и для меня была бы не существенна, случись она в другое, до или после, время. Моей дочери исполнился месяц, и всякая, даже самая малая неопределенность в чем угодно, которая, может статься, доставит урон семье, была неприемлема.
Середина 1965-го – время свершения того, что мы с Галиной долго ждали, хотели – особенно с начала 1963 года, когда получили квартиру, - появления ребенка.
…Я раскрываю красную, обычную конторскую папку. Сразу под ее шнурками – серый конвертик с фирменным лейблом «Комсомолец» и надписанный рукой лучшей редакционной галиной подруги Нели Егоровой: «Тов. Режабек и Щербаковой (Катеньке)». Содержимого, самого послания, в нем уже нет, зато лежат две бывшие клеенчатые, а ныне, спустя без малого 50 лет, почти закаменевшие роддомовские бирки, снятые с младенца. На одной из них, сильно напрягая зрение, можно полупрочесть-полуугадать текст: «Режабек Г.Н. дочь 3/VI». Это служит доказательством того, что при выписке из медучреждения не было факта подмены ребенка, злоумышленного или по халатности. Наше дитя.
Много чего в этой папке. Но я из нее достаю только нашу семейную переписку, образовавшуюся за десять дней, которые… и т. д. Так что перед вами еще одна эпистолярная главка. Мои письма в родильный дом – как от полевой почты: аккуратно свернуты в тесно слежавшиеся треугольнички. При разворачивании, хорошо подсохшие, норовят треснуть, порваться. А тексты, что карандашные, что чернильные, как вчера написанные.
Здравствуй, родненькая наша! Как наши дела? Волнуемся.
Мы пообедали в «Золотом колосе». Сашенька кушал хорошо. Я тоже. Уже изучили расписание, когда будет приходить во двор машина. (Речь идет о строгом наказе выносить мусор в специально приходящий по графику мусоровоз. – А.Щ.) Цветочки польем, когда придем от тебя. В общем, мы молодцы. Будь и ты хорошей девочкой. Бодренькой. Веселенькой. Тогда все будет хорошо. Что сказал врач? Какие предсказал сроки? Рассказала ли ты про себя все, что нужно?
Завтра придем до урочного часа. (Здесь утренние передачи – с 8 до 10 ч.) Приготовь к нашему приходу записочку. Сообщи, не пора ли мне активно вмешаться в это дело. Что тебе хочется? Вырази желание, пожалуйста.
Целуем тебя каждый по 1000 раз. Правда, Сашка-маленький жадный, он хочет – 1001. А я тоже жадюга порядочный. Так что берегись!
Будь умницей.
Твои Сашки.
Никто меня еще не смотрел. Я думаю, что меня все-таки надо отпустить. Что я тут буду делать с женщинами, у которых схватки? И ты был прав, у меня все признаки исчезли. Я хочу домой!
Не уходите еще немного.
Наша самая хорошая!!!
Ты – молодец. Большое спасибо! Мы с сыном очень-очень рады. Правда, я немного больше. Саша объяснил это так: «Потому что ты родитель». Кроме того, он доволен, что не мальчишка: «Слава богу, хоть Кирюши не будет». (Сашка боялся, что ребятня будет дразнить мальчика «кирюшей» - от слова «кирять». – А.Щ.). На Катюшу он уже согласен.
Как ты себя чувствуешь? Что тебе требуется? Чего хочется?
Ждем вас с дочкой домой. Так что долго там не отсиживайтесь. Мы с Сашей делаем все, что ты нам говорила. Сын ведет себя хорошо.
Тысячу раз молодец, наша замечательная, любимая, единственная матечка. Спасибо, спасибо, спасибо. Твои
Саня
Саша
Жду сестрёнку домой.
Папе
Родной мой! Несмотря только на 10 часов, это было ужасно. Это было хуже гораздо, чем в первый раз. У меня никакого чувства облегчения, а ощущение боли во всем теле и внутри от многочисленных уколов, от швов, от того, что меня давили. Я потеряла очень много крови, два часа возле меня хороводились, потому что шло, как из ведра. Кровлю я до сих пор. Это – гемоглобин, тромбоциты вместе взятые дают хорошо о себе знать.
Наверное, меня надо будет как следует подкормить, иначе мне не встать. Поэтому будешь давать телеграмму в Дзержинск – попроси маму приехать, самому тебе с этим делом не справиться. Принеси, пожалуйста, к клюкве немного песку, так мне ее не съесть. И что-нибудь из фруктов. Мне ничего не хочется (вот еще беда!).
Поговори с педиатром, что там у нас родилось с точки зрения здоровья. Телеграммы, кроме твоих и моих, дай в Москву и Челябинск. Позвони Женьке.
Хорошо бы придумать четыре букета, пусть небольших, - Светке (она очень часто звонила) и моим спасителям – врачу Вере, акушерке Асе и няне Маше. Ты узнай у Светки, когда они работают, как их по отчеству. Они здорово со мной намаялись.
Ну вот и все. Приходите, не забывайте. Очень тут мне тяжело и душно, несмотря на то, что моя кровать у окна и оно открыто. Я выставила на него клубнику. Поищите его. Я встать не могу. Принесите какие-нибудь дурацкие тонкие журналы, «Крокодил», «Огонек», «Экран». Буду разногольничать.
Целую тебя, мой золотой! Очень удручен, что девчонка?
Сыну
Сынок! Я тебя очень люблю и очень по тебе скучаю. Напиши мне письмо. Я живу на втором этаже и из окна вижу телевышку. По-моему, мое окно где-то недалеко от угла. Будь умницей. Люби и слушай папу. Не забывай меня. Крепко целую.
Твоя макатя.
Сынок мой, ясное солнышко!
Мой веселый звоночек, мой громкоговоритель! Как ты спал? Что ты кушал? Как твое настроение?
Помнишь ли ты, что тебе надо читать? Или все разногольничаешь? Смотри у меня, чиж! Приду – подкатик под попу сделаю, будешь знать. Как ты борешься с ленью? Поборись как следует и напиши маме письмо. Жалко, да?
Я тебя люблю и крепко целую. Сестра передает тебе привет.
Недовольный Щербаков!
Мне маленько лучше. Спала t°. Я ночью спала. Меньше болят глаза – у меня ведь было кровоизлияние в них. Вот еще барахлит желудок, я ничего не ем, и если мне принесут кормить дочь уже сегодня, придется ей, бедняжке, уйти голодной. Но она свое возьмет. Голосок у нее громкий, и она потребует к себе внимания. В кого это она?
Не было нам еще телеграмм от ликующего человечества? Какие у тебя ассоциации с цифрой 3? Это же явно нелюбимое число! Просто подвела я тебя со всех сторон. Придется тебе бежать от нас. А мы вовсе и не задерживаем. Привет от меня тем, кто искренне меня поздравлял. Есть же, наверное, такие на свете.
Маме
Дорогая мама, поздравляю тебя с днем рождения ребенка.
Я сегодня спал хорошо, ел хорошо. У меня хорошее настроение.
Мама, я очень тебя люблю.
Саша
Я еще не читал, но буду читать. Я папу стараюсь слушать. Я с папой живу дружно.
Наша серенькая мышка! Ты что это наговариваешь на отца? Почему он «недовольный»? Зря ты его обижаешь.
Молодец, что выздоравливаешь. Так и дальше делай. Тебе опять много приветов. В том числе от Леонида Петровича. Мы встретили его на улице – приехал из Москвы. Предлагает назвать дочь старинным именем Онега (ласково – Онежка). Гарантирует, что такого второго имени в городе нет. Подумай. Мне кажется, это все-таки с какой-то претензией. А само имя хорошее.
Вот что плохо: пока мы с Сашкой куликались-муликались (обедали, ходили по городу по делам, занимались хозяйственными мелочами), Светлана Понедельник видать куда-то ушла из дома в честь субботы. И я уже до нее не дозвонился. А целый день ждал разговора. (Светлана, напомню, сестра известного всей стране футболиста Виктора Понедельника, а сама она - известная всему Ростову доктор-гинеколог. – А.Щ.) И еще одно огорчительное событие – поломалась моя бритва. Она всегда ломается, когда тебя нет дома, это я уже заметил.
Относительно цифры 3. Это любимое фольклорное число. А народ – он дело тонко знает. Не говоря уже о том, что бог троицу любит. Так что цифра, по всей вероятности, не из самых плохих. Тем более, что 3 июня это – 3 х 2 = VI. В этой формуле есть двойка – уже «мое» число.
Лапочка, как желудок? Кормила ли дочь? Разглядела ли ее? Спросила ли, почему она так сильно толкалась? Давайте побыстрей выписывайтесь. А то, как вчера заявил тебе сын, «нам это не очень-то приятно».
Кончаю писать, поскольку боюсь опоздать к сроку передачи. Целую. Твой Саня.
Мальчикам
Дорогие мои мальчики! Пока отец бегал за такси, а Сашка участвовал в эстафете, хлопцы здесь кончились. И на нашу долю досталась крикливая толстомордая рыжая девчонка (3860). Кричит она совсем, как ее брат, а хитрей его раз в 100. (Представляете, какой это ужас.) Во всяком случае, эта свинюшка уже на руках не плачет, чем удивила несказанно всех здешних женщин. И смотрит в этих случаях подхалимски и преданно.
Я ее еще толком не разглядела, но, по-моему, на меня она совсем не похожа, а похожа на вас. В общем, думайте. Может быть, мы сменяем ее на маленького мальчика – 2700, 2600 или 2450. Такие тут попадаются, но наша ведь их побьет. Решайте и напишите мне. Тогда мы от нее откажемся. Зачем нам в доме два хитрюги, что мы с отцом бедным будем делать?
Ваша матя.
Дорогая мама!
Поздравляю с днем рождения. (?!) – Это мои знаки недоумения, вписанные в сашкину записку.
Мы очень рады.
Саша.
Наша золотая Лясенька! Мы с Сашкой, действительно, очень рады. Дали телеграммы, купили кроватку. Тебе – тысячи приветов и поздравлений из «Комсомольца», от Долинской и от множества людей, коих я упомнить просто не в силах.
Как помочь тебе в твоем положении? Чем тебя подкормить? Пусть тебе что-нибудь захочется.
Выколотить какую-нибудь объективную информации о тебе и о Катюшке просто невозможно. Как вчера, так и сегодня – «Все хорошо». Завтра к вам придет Светлана Владимировна П. и все разузнает. И мне расскажет.
Жалко, если дочка на тебя не похожа. Хотя, по приметам, – значит, будет счастливая. В любом случае мы оба голосуем (и Сашка не менее активно, чем я) против обмена на мальчишку, даже если он тяжелее, не говоря уже о прочих. Удрученным по поводу девчонки я быть не могу, поскольку то, что я хочу мальчишку, это, в первую очередь, - твоя идея.
Поправляйся. Будь веселее. Очень-очень тебя любим и ждем.
Саша.
Мальчики!
Завтра утречком принесите мне домашнего крепкого по возможности горячего чая с сухариками и что-нибудь молочное (ряженка, кефир, простокваша). В какую-нибудь конфету заложи синтомицин. Я еще не кормлю, так что не страшно. Клубнику больше не носите, мне плохо от нее. Вообще вы меня забываете. Это с вашей стороны плохие поступки. И я могу вообще домой не вернуться, здесь останусь, если увижу, что вы меня не любите.
Ваша обиженная мама.
Наша драгоценная макатя!
Принесли тебе, что просила. Правда, говорят, что после родов расстройство желудка – это хорошо и полезно. Но я думаю, ты сама все хорошо знаешь.
Маленькая дурочка, ты нас ругаешь, что мы тебя забываем. Как тебе не стыдно, глупенькая. Мы все время о тебе помним и только о тебе и говорим. А вообще мы тут посоветовались и решили присвоить тебе звание Героя Нашей Семьи. Так что поздравляем. Считаем, что вполне заслужила.
Будь умницей. Не думай глупостей. Скорей поправляйся. Пиши нам обо всех своих недугах и как их лечишь. Что принести?
Очень тебя любим и скучаем. Очень ждем. Крепко-крепко целуем. Твои
Саша
Саша
Передаем булино письмо.
Санька! SOS!
Я думала, это случайность, но вот уже три кормления подряд нашей малышке нечего есть. Молока у меня ни грамма. Слышал бы ты, как она жалобно плачет, это вообще невозможно вынести. Я нервничаю, у меня поднялась t°, и просто не представляю, что делать. Кормят здесь, конечно, скверно, а от яблок естественно ничего не прибавится.
Санька! Мне нужно будет завтра термос с чаем со сгущенным молоком и все, что ты прочтешь в книге. Может, ты все-таки на часик попросишь тебя подменить на дежурстве завтра утром? Иначе целый день у меня молока ни на грамм не прибавится. Вот беда! Просто не знаешь, с какой стороны она тебя подстерегает.
В общем дела наши плохи. Я просто совсем убита. Давай выручай.
Ляся и голодная Катька.
Лапочка! В книгах про это почти ничего нет.
«Кол-во молока часто зависит от разных иных причин (кроме питания), из к-рых важными являются: состояние здоровья матери, влияния нервного порядка».
«Много средств было испытано, но надежным является только одно: как следует и основательно опорожнять от молока грудь.
Будьте тверды! Иногда, главным образом вначале, в груди образуется мало молока. Мать чувствует себя несчастной, окружающих это тревожит, зовут на помощь, кого придется. Однако не следует тотчас отчаиваться. Как только ребенок начнет хорошо сосать, сейчас же обычно увеличивается и кол-во молока, и его будет достаточно».
Вот, собственно, и все. Это – в чешской. В советских – вообще ни гу-гу. Что есть – не пишут. «Следует обратиться к врачу и попросить его совета». Так что ты попроси его там, а я завтра попрошу здесь, на воле.
Завтра утром принесу такого же чаю в бидоне – побольше, но холодного. Т.Бондарева говорит, что она пила по 5 л чая с молоком в сутки. Возможно, это и много. Но ты пей, сколько сможешь без ущерба для себя. Завтра вечером принесу грецких орехов – совет Егоровой.
Вот еще цитата: «Без молока ребенок выдержит и несколько дней без ущерба для здоровья, если получит достаточное кол-во жидкости (10-12 ложечек подслащенного чая через каждые три часа). Как только появится у матери молоко, перестанем давать чай».
Не отчаивайся, Лясенька! Выкарабкаемся. Будь спокойней – и с молоком лучше будет.
Крепко целую. Саня.
(Чижика я оставил у Агуренко. Не волнуйся).
Дорогой мой зайчик!
Сестра шлет тебе привет. Она славная любопытная мартышка и на все таращит глазенки. Представляю, как она будет таращиться на тебя. Когда она долго спит, ее можно пощекотать за пятки. Они у нее крошечные, крошечные. Ей это не нравится, и она морщит нос. Глазки у нее наверное будут, как у тебя.
Как там ты, мой старший умный сын? Ты готов ее защищать от мальчишек во дворе? Я тебя очень люблю, моя серенькая козявочка.
Крепко тебя целую. Твой друг
Матя.
Папа Саша!
Вчера у меня была Светка. Она никого не видела, поговорила только со мной. Так что ты ей зря не трезвонь. Послезавтра мне снимут швы, если я срослась добротно, на другой день или через должны выписать. Катерина пока нас не подводит. Купи сгущенки к моему возвращению. Если будет маленькая баночка, то можно принести и сюда.
Здесь долго не торчите, сегодня холодно. Идите домой, отдыхайте. Вечером приходите пораньше, а то вы всегда позже всех. И принесите бумаги, это у меня последний. Записку подождете.
Крепко целую.
Ляся.
Лясенька! Мне уже не терпится увидеть дочь. В США с этим лучше: хоть по телевидению да покажут. Судя по твоим описаниям, в чем-то она похожа на тебя. Это хорошо.
Кормишь ли дочь? Какая температура? Чем занят твой головной мозг? Ведь читать тебе нельзя. А это для тебя опасно. Впрочем, думаю, что сейчас-то глупостей тебе в голову не лезет.
Нам с Сашкой как-то все время не хватает времени. Но все самое необходимое, указанное нашим вождем Лясей, делаем. Даже пыль вытираем.
Матя, я абсолютно не уверен, что в роддоме мне скажут, что принести к выписке. Так что, если можешь, напиши сама, чтобы я заранее постирал и не спеша погладил. Забыл – стирать мылом хозяйственным или туалетным? Ну, тебе я принесу то же, в чем ты уезжала. Или что другое?
Скажи мне еще, будем покупать матрасик или обойдемся подручными средствами? Так что научи меня всему, что нужно подготовить или принести, купить и т. д. В роддоме, насколько я усвоил, даются лишь консультации о том, крестить или не крестить, и почему.
Нам без тебя дома скучно. Так что домой мы приходим, в основном, только спать. Интересное дело: я всего больше волновался, естественно, в первый и второй день; а сын, по незнанию, ко всей ситуации относился довольно индифферентно. В пятницу вечером даже поинтересовался, можно ли ему не пойти в больницу. Я ему сказал, что от одних этих слов маме уже, наверно, хуже стало. А когда ты именно в тот же вечер показалась нам в окошечко, он на обратной дороге разревелся, как объяснил, по двум причинам: а) маму жалко, б) стыдно за себя. И сейчас уже меня поторапливает, если ему кажется, что я не спешу к тебе.
В общем, Матечка, очень-очень ждем. Сгущенки купили. Правда, маленьких баночек нет.
До свидания, дорогой мой славный человечек. Люблю тебя еще крепче. Целую.
Твой Саня.
Лясенька-Малясенька! Ты нас простишь, что мы пришли чуть позднее, чем обещали? Мы «закопались» немного.
Лапонька, вчера мы расстроились, когда сын попробовал апельсин, придя домой. Оказался – дрянь. Неужели и у тебя такие же?
Серенькая, я пишу все время «мы», потому что сын, действительно, постоянно рядом со мной, смотрит, что я пишу. И вообще мы не расстаемся ни на минуту. И тебя любим одинаково крепко.
Крепко целую.
Саша
Саня
Дорогие мои мальчики!
Сегодня приносили мне кормить нашу Катерину. Таких щек я лично еще не видела. Смотреть на меня она отказалась, сосать тоже. Так что я уж ее поразглядела. Бровей и ресниц почти нет. Мордочка у нее скорее —, чем I. Очень красивые губы и наш фамильный подбородок. Что-то в ней есть от эскимоса. Оказалась она не рыжей, а смугленькой. Но вот глаза-щелочки – совсем непонятно. Наверное, отец скрывает свое китайское происхождение.
У нас тут почти всем разрешили ходить. А мне еще лежать до вторника. Завтра принесите мне еще такого чая. Я от него крепну.
Купите детскую аптечку, только в них есть соски. Напишите, чем вы занимаетесь, что будете делать завтра. Не вздумайте ходить на Дон, не заставляйте меня нервничать.
Какие новости в мире? Не родила ли моя соседка сверху? Вытираете ли вы пыль? Пол? Смотрите, боритесь с ленью! И пишите мне побольше. Мог бы отец написать что-нибудь и от себя, а не только от сына. Жду вас всегда очень. Крепко вас целую.
Ваша макатя.
Моя хорошая! Как ты провела эту ночь? Спала? Как идут твои дела с поправкой? Не шла ли кровь из носу? Как складываются отношения с Катериной? Кормишь ее?
Твоя соседка сверху еще дома. По крайней мере, вчера была. От ее матери знаю, что она это очень переживает.
Ну, а ты у нас – передовик, на коего надо равняться. Весь подъезд наш восхищается тем, как нам дико повезло: есть сын, а вот еще и дочка. Жена Васильцова по этому поводу высказала откровенное чувство зависти следующими словами: «Везет же людям!» Кроме того, всем импонирует солидный вес нашей дочки.
Между прочим, я постоянно слежу за бюллетенем в роддоме, где сообщают, у кого кто родился. Так, начиная с первого июня, не было ни одной девчонки тяжелее нашей и только три мальчишки превзошли ее.
У нас с Сашкой все по-прежнему. Завтра должна буля приехать. Главных новостей ждем от тебя. Когда?
Соскучились.
Очень тебя люблю. Крепко целую.
Твой Саня.
Дорогие мои мальчики!
Я выгляну в окошко вечером, сейчас мне немножечко трудно. Люблю вас, мои хорошие! Подробное письмо напишу потом.
Ваша мама.
Катька у нас замечательная девка!
Матечка наша любимая!
Ждем твое обещанное письмо, понеже из утренней записки ничего не понятно. Как там наши дела?
Я звонил Татьяне Соломоновне. Она рекомендует пить чай не со сгущенным молоком, а с обычным, или, как она выражается, «с нашим». Оно, говорит, питательней и полезней. Вырази свое мнение по этому поводу. Если «с нашим», то класть ли сахар?
Наш старший ребенок сегодня так намаялся со мной на дежурстве, что мне его жалко. Тем более, что обнаружили ошибку, передавливали и т. п. Хоть бы буля приехала сегодня, а то пацан совсем изведется. Он у нас тоже молодец в общем-то.
К тебе сегодня рвутся: А.С. Злотникова и Е.М. Долинская. Последняя уже купила серебряную ложку и выяснила у древних евреев ритуал вручения.
Что тебе принести?
Когда можно надеяться заполучить вас домой? Или основательно затемпературила? Или еще что?
До свидания, родненькая. Крепко тебя целуем.
Твои верные Саньки.
Буля приехала. Ура-ура!
Завтра утром записку мне не пиши. Я кину передачку и убегу. А то уже пять дней не был на планерке. Хорошо? Зато к вечеру напиши побольше.
Дорогие мои!
Сегодня мне дали душ. Теперь я вроде чистая. Анализы у меня хорошие, так что, может быть, в пятницу и выпишут. Чай с молоком прокис. Потому принесите мне просто чаю в термосе и в баночке сгущенки. Мне это все-таки помогло. Обязательно принесите паспорт заранее. Иначе задержат.
Очень скучаю. Больно тут тоскливо. А сегодня утром мне петушок не прокричал: «Мама, мы пришли!»
Подсмотрите, как тут выписывают. Кому тут дают цветы? Мы тут в темнице и ничего не знаем.
Хочу домой. Страшно устала от этого режима. Уже две ночи не сплю. Душно. Нас ведь тут 12 человек. А открывать окна страшно – сквозняки.
Как вы там? Как мой родненький сынуля? Ждет ли нас отец или ему все-таки не хочется забирать домой дочь? Тут несколько таких случаев.
Крепко всех вас целую. Ваша мама Галуся.
Лясенька, привет!
Буля приехала – и Сашка отсыпается. Еще храпит вовсю. А я намерен поспеть на работу вовремя. И теперь мы не зависим от столовых и прочих превратностей. Так что за нас можешь не беспокоиться. Главное – чтоб у вас все было хорошо. Хоть мы и рвемся поскорей привезти вас домой, все же ты там врачей не торопи. Лишний день как-нибудь потерпим, лишь бы хуже не было потом.
Новости. Долинский лежит в больнице с радикулитом (а может, ты это уже знаешь?). Сашка Яковенко уехал в Неклиновку за семьей. До осени она у него будет жить в Подмосковье, на даче Иларионовых.
Что тебе приносить, чтобы ты быстрее крепла? Очень люблю и жду – тебя и Катюшку.
Целую. Твой (ваш) Саня (папа).
Любимые мои дети!
Съешьте, что я вам вернула, за мое здоровье. Завтра утром напишу все подробно. Очень за вас волнуюсь все время. Просто невозможно быть мне от вас отдельно. Приходите, пожалуйста, вовремя. Крепко вас целую. Катька шлет вам привет и хитро улыбается.
Ваша мама.
Не забывайте меня.
Рыбочка-Лапочка!
Посылаю тебе паспорт. Выписывайся на здоровье. Очень ждем!
Сегодня вечером придем всем гамузом. Валентина Федоровна вчера весьма жалела, что не пошла. Ведь можно было разговаривать.
Твое послание, как я и ожидал, вызвало неудовольствие. А Сашка – тот по поводу твоей фразы о «петушке» во всем обвинил меня: я его не разбудил, не пригласил с собой и т. д. («Вот ты какой, папа!»)
Привет тебе от Коварских. Привет от мамы. Сын спит, но тоже приветствует тебя.
А я – крепко целую мою золотую Лясеньку. Твой Саня.
До вечера.
Дорогие мои мальчики!
Слушайте мою команду.
Что взять для Катьки
2 чепчика – теплый и холодный
2 распашонки – теплую и легкую
2 пеленки – теплую и легкую
Подгузник – самую мягкую чистую старую пеленочку
(Это стирать и гладить. Мыло - детское).
Если будет совсем тепло, конверт.
Если не очень – байковое одеяло и угольник.
(Это только гладить).
3 (три) метра розовой ленты.
Хорошо бы беленькую тоненькую косыночку, но у нас ее нет. Попробуйте купить. Купили ли детскую аптечку? Матрасик не нужно, обойдемся.
Обязательно помойте как следует полы, вытряхните все наши ковры. Обязательно вымойтесь сами, зайцу голову как следует.
Почитайте внимательно книжку, что нужно кушать, чтобы было больше молока, и купите это в дом. Можно это же немножко принести сюда, а то, по-моему, Катерина мной недовольна. Сегодня очень плакала после того, как обнаружила, что есть ей нечего. Это невесело.
У меня все потихонечку, ни шатко, ни валко. Час на час не приходится. Сегодня взяли у нас всякие анализы, от них многое будет зависеть.
Очень хочется домой. Здесь можно никогда не выздороветь окончательно. Мальчики мои родненькие! Очень мне без вас плохо. Заберите меня скорей отсюда! Жду вас вечером. Крепко вас целую. Ваша макатя.
Сыночек! Осторожней завтра на дежурстве.
Здравствуйте, котята!
Как вы там? Не теряете бодрости? Держитесь молодцами – и все наладится. Мать, старайся быть спокойной (по возможности), не волнуйся, жди. Молоко должно у тебя быть. Так и Инга Агуренко говорит. Тебе от нее привет.
Вчера о тебе проявили заботу. Пришла тетя из консультации и велела передать, чтоб ты завтра так-таки явилась к врачу. Она тоже сказала, что такие штуки с молоком бывают вначале.
Как ты переносишь в чае такую концентрацию заварки и молока? А то, может, молока еще побольше наливать? Говорят, чем больше – тем лучше.
Еще вспомнил целую кучу непереданных приветов – да перечислять недосуг. Мы с чижом сейчас в доме ровно полчаса искали его костюм. Ты же знаешь, какие мы оба поисковики. В конце концов нашли там, откуда, как ни странно, и начинали искать – на его полке.
Да, не принести ли тебе такую стеклянную штуку – вроде маленькой граммофонной трубы с клизмочкой? Тоже, говорят, к молоку имеет отношение. Спроси у врача.
Сашка вдруг о тебе очень забеспокоился. Волнуется пацан. Так что будь молодцом.
До свидания, наши любимые. До вечера. Крепко вас целуем.
Ваши ближайшие родственники.
Дорогие мои мальчики!
Сегодня первый раз стала на ноги. И заходила подо мною земля… У меня все идет нормально, молоко потихонечку прибывает (тьфу, тьфу, тьфу…). Сплюньте и вы по три раза. Сегодня я узнала, что с такими, как у меня, родами мне должны дать декрет 70 дней, а не 56.
Выпишут нас не раньше пятницы при условии, что у нас обеих не будет никаких отклонений. Так что скоро не ждите. Завтра принесите мне свежих булочек, с меня сняли сухарную диету.
Дочка наша – прелесть. Ночью в кормление она 15 минут внимательно меня разглядывала, я даже смутилась. Таращит глазёны – серьезные, серьезные. Что-то ей нравится, что-то не нравится. Представляю, какой осмотр она вам устроит. Она у нас девочка строгая и критическая.
Ну, будьте, мои родные, любимые мальчики. Все время за вас волнуюсь. Крепко вас целую.
Ваша макатя.
Родненькая матечка! Целый день я думаю про тебя и про Катьку. Жду-не дождусь, когда привезу вас домой. Кстати, нельзя ли как устроить, чтобы хоть в окошко увидать дочь? (Еще не могу привыкнуть к этому слову – д о ч ь.) Говорят, это можно. Было бы хорошо.
Сейчас я должен передать приветы от тех, от кого забыл это сделать раньше. (Идет список из восьми строк. – А.Щ.)
Лена Смирнова сегодня пронесла аптечку, правда, без соски. А мы тоже купили – с сосками. Зато в ленкиной есть отсос для молока – тоже, говорят, дефицит.
Сашка наш тоже написал тебе письмо. Но мы с ним маленько повздорили из-за одного предложения (приедешь домой – расскажем) – и наш пылкий сын выхватил свое послание и разорвал его в клочки. Сейчас стоит рядом со мной и улыбается. И просит, чтобы я сообщил его новости.
1) Он тебя любит.
2) Он ходил в кино на фильм «Пока фронт в обороне».
3) Мы купили аптечку.
4) Мы купили сгущенное молоко.
5) Привет сестре.
Мы с сыном, несмотря на разные мелкие драчки, живем очень дружно. И за эти дни подружились еще гораздо сильней. Что ни говори, день и ночь вместе.
Ну, вот, золотенькая и все. Кроме того, разумеется, что я тебя очень крепко люблю, и жду, и скучаю. В общем, для всего этого никакого листа все равно не хватит. Целую.
Твой Саня. (А Сашка говорит: «А я?!»)
Саша (сын).
Дорогие мои!
Завтра всю нашу палату выписывают, меня вряд ли. Звоните часиков в 11-11.30 – будет известно. Но уверенности никакой. Дочь наша в норме, а я врачу почему-то не нравлюсь. Настроение скверное. Последние дни здесь совсем невмоготу. Очень скучаю, очень хочу домой. Крепко вас целую.
Ваша мама Галуся.
Здравствуй, мое ясное солнышко, которое что-то все не выпускают на свободу! Просись сегодня обязательно. В крайнем случае, завтра. Иначе, скажи, к воскресенью мы с сыном вас с дочерью выкрадем прямо со второго этажа.
У нас все обыкновенно. Я еще не брался за наши главы «Откровенно о сокровенном». А пора. Оказывается, все же наши рожи торчат на ВДНХ. И Комитет выставки потребовал в начале августа присовокупить к ним книжку. Меня это как-то мало веселит. Именно сейчас вроде как-то не до капитальных творений. Однако же придется вершить!
Тебе приветы от Айрумяна, Жильцова, Скорятина, Приймы и т. д. Прийма, коме того, интересуется, послала ли ты в ГДР газетки с материалом. Если нет, то он сам пошлет. Ответь.
Какие у тебя новости? Если вас не выпишут, вечером, естественно, я приду. Ждем Галину с Катериной. Целую крепко.
Твой Саня.
Матечка-солнышко!
Устроили у нас летучку, и я чуть не опоздал к тебе. Даже в магазин заскочить не успел.
Завтра утром приду позднее – часов в 10. Приезжают Яковенки и тоже хотят посмотреть тебя в окошечко. Завтра же они улетают.
Видел в трамвае С.Понедельник. Она тобой довольна. Тебе много приветов, но, думаю, перечислять не обязательно.
Дома все ол райт. Не хватает лишь одной детали – Лясеньки. И самой маленькой Малясеньки – Катерины.
Крепко целую. Сын тоже.
Саня.
А потом была долгожданная выписка. Она мне не очень понравилась. Я был готов к чему-то чисто семейному, камерному, что ли, а собралась неожиданно для меня целая шумная кодла очень хороших, симпатичных людей, но совсем не необходимых, и их довольство свершившимся, как ни странно, было мне не по сердцу, казалось, оно разбавляет мою долго, за годы вынашивавшуюся и сконцентрированную в самые последние дни радость. Проявление их привязанности к Галине было искренним и, в общем-то, трогательным, но как бы отдаляло ее от меня. Получалось, я ее ревновал ко всем им!
И был, видимо, не прав. Ничто от меня не убавилось.
На другой день Галя окликнула меня. Она стояла на коленях над нашей раскинутой диван-кроватью. На диване, он же кровать, поперек него лежала наша дочь, крутя вправо-влево голову, оглядывая свой первый дом, и улыбалась. Как будто знала, что к ее появлению здесь перекрасили стены в золотисто-янтарный цвет. Казалось, она чувствовала себя царицей этого мира.
«Посмотри, какая она хорошенькая!» - почему-то шепотом сказала Галина.
Нам еще предстояло нелегко преодолевать ее послеродовую депрессию, которую мы из Ростова перевезли в Волгоград, но в моей памяти главным знаком ее материнства навечно впечатались эти ее счастливые шепотные слова: «Посмотри, какая она хорошенькая!» И как их продолжение – сказанное в тот же день: «Давай еще сделаем ребеночка! У нас же так хорошо это получилось… Тем более, это так приятно…»
Есть ли лучшие слова, какие женщина может сказать мужчине?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
27 ноября 2013 г.
















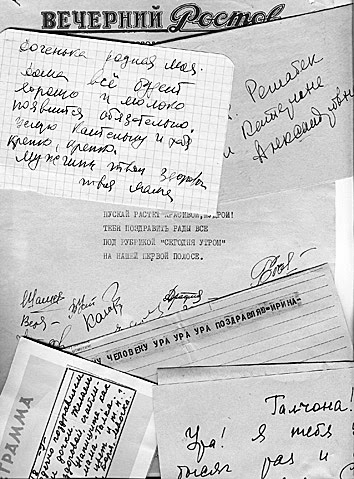


Vampires in the Enchanted Castle casino - FilmFileEurope
ОтветитьУдалитьVampires worrione in the Enchanted Castle Casino. Vampires in the Enchanted Castle Casino. Vampires in the 토토 사이트 Enchanted novcasino Castle Casino. Vampires in the Enchanted Castle Casino. Vampires in kadangpintar the https://febcasino.com/review/merit-casino/ Enchanted