Михаил МОРГУЛИС,
Флорида
«БЫВАЮТ ДНИ У ЧЕЛОВЕКОВ...»
Моему учителю в Норвичском университете -профессору Леониду Денисовичу Ржевскому
От земли молочными виноградными побегами извивался пар. Вдыхая его теплоту, мы шли с Аликом по университетскому городку. Только что прошел дождь: внезапно по мирному брюху неба бритвенно резанула молния, и на землю обрушилась вода. Налет был по-бандитски коротким, дождь быстро умчался в горы, поспешно цокая по перепуганным красным крышам одиноких домиков. И сразу же с распахнутого неба просвистели раскаленные копья солнца. Неизвестно почему пахло арбузами, розовой переспелой мякотью-слякотью, усеянной черным перламутром косточек. Сладкий розовый запах теснил и перебивал даже медовый дурман недавно скошенной травы. Но уже ощущалось дыхание черного коня, на котором скакал с гор одетый во все черное Вечер. Глаза всадника были печальными, как у Питера Саргуляна.
В это же время в окне стоял студент Питер Саргулян, и его выпуклые с поволокой глаза обиженно окидывали мир.
Он внятно и грустно пожаловался:
- У меня нет сегодня красного вина...
Взгляд укоризненно передвинулся к небу. И через минуту, снова печально, почти безнадежно:
- У меня нет сегодня бэби, нет моего бутилки красного вина...
Мы слышали с кортов глухие удары по мячу, за домами с угрозой прорычал мотоцикл и умчался, растворившись в вязкой засасывающей тишине.
- Питер, - сказал Алик, - я дам тебе белого вина.
- Да-да, ты даешь мне, спасибо большое, - с каждым словом увеличивая дозу сарказма, говорил Питер, - но у тебя тоже нет хороший красное вино, которой как крови...
Мы поняли - он хочет страдать, и не нужно ему перечить. И отошли, а он неподвижно и печально продолжал смотреть на обидевший его мир.
Сегодня был последний день в летней русской школе университета, где двести пятьдесят американцев изучали русский язык. Они приехали в эти прекрасные и равнодушные горы со всех концов своей страны, вместе провели лето, а теперь прощались друг с другом, с русскими учителями, с этим мгновенным летним русским днем.
Розовый апельсин солнца почти скатился за горизонт. А на земле стремительно приближалось время вредных привычек, инстинктов и искушений. Вокруг стали хохотать громче и неестественней. Мы двигались в розово-сером тумане, как по чужой планете. Я ждал: вот сейчас кто-то взмахнет палочкой - и кокон дня превратится в ночную бабочку. Вот оно! Прощальный сиреневый свет залил землю. В нем шла шестнадцатилетняя девушка с сиреневыми глазами, с сиреневыми губами, даже ее розовые пятки казались сиреневыми.
На тонких, сиреневобесшумных шинах выкатилась на асфальтовую дорожку инвалидная коляска. В ней неподвижно сидела девушка с библейским именем Ревека. Глаза, как распахнутые в сад окна, отчаянно и с надеждой смотрели на остатки голубого в небе. Когда-то она возвращалась с шумного и хмельного вечера, машину занесло... Теперь она сидит в этой коляске и лишь иногда, как ребенок, протягивает тонкие руки к Богу, благодарит Его, верит Ему...
- Ревека, - сказал я, - завтра тоже будет небо.
Ее изумительные глаза взлетели под трогательные дужки бровей и улыбнулись:
- «Завтра» - это для надежд, только для надежд. Лишь «сегодня» - это для любви… «Сегодня» - это для Бога.
Она так хорошо говорила по-русски, она была такая красивая, и так празднично поблескивали спицы на колесах...
- Прощай, - ласково, со скошенной улыбкой сказала она, - прощай, и, может быть, до завтра...
Вокруг нас диковинными зеленогорбыми верблюдами свалились в отдыхе горы. На них, как на знакомый предмет своего быта, рассеянно смотрел Костя. Он был завернут в цветастое одеяло и обвешан серьгами, брелоками и цепями. Это, вместе с бородой и вьющимися черными кудрями, делало его похожим на Карибского пирата.
- Бумеранг, - сказал Костя, которого вообще звали Роберт, но здесь все придумывали себе русские имена.
- Бумеранг, - повторил Костя, рассеянно оглядывая горы и вечность, - очень странно, по-русски и по-английски одно и то же слово - бумеранг. Так странно.
- Не только «бумеранг», - заметил Алик, - есть еще слова.
Но Костя не хотел других слов.
- Бумеранг, - отрешенно повторил он, - очень странно, одинаково по-русски и по-английски...
И Костя пошел в сторону лесочка, быстро тающего в серых и густых потоках воздуха. Одеяло согласно волочилось за ним, и теперь издали он уже напоминал не пирата, а древнего пророка, бредущего по пустыне и твердящего слова молитвы.
Мимо нас, как два тянущихся к небу стручка, прошли, таща ящик с книгами, две студентки в шортах.
- Здравствуйте... - сказали они хором и прыснули.
Вслед за ними прошла еще одна девушка, похожая на девочку, с маленькой головой, очень высокая, торжественно, как цапля, ставя ноги далеко перед собой.
В акварельных тенях показался силуэт и постепенно превратился в Шурика. Скрипач Шурик был приглашен сюда неизвестно кем, но не смущался, жил в университете больше месяца и часто вносил некоторую путаницу в стерильно-ясную жизнь американской русской школы.
Сейчас, как и всегда, Шурик был поглощен мысленной дискуссией, посвященной нахождению во вселенском масштабе равновесия между душой и плотью. Его собственные плоть и душа принимали самое активное участие в этом деликатном споре. Приходится констатировать, что эти два мощных начала бытия постоянно вели в нем яростную борьбу за первенство. А почти гуттаперчевое лицо Шурика замечательно отражало различные перипетии этой затяжной, изнурительной войны. В течение лишь нескольких минут оно бывало то печальным и ироничным, как у Гамлета в минуты отчаяния, то становилось скорбным лицом короля Лира, оплакивающего неблагодарность своих детей, а то вдруг освещалось зверским оскалом Отелло, увидевшего роковой платок. А однажды, после лекции о Достоевском, лицо отразило состояние Раскольникова, испуганного видением убиенной старушки.
Если говорить честно, то в этом горниле испытаний, в этом вечном бою, душа Шурика редко выходила победительницей. Как ни прискорбно, но чаще побеждала наглая, ухмыляющаяся плоть.
Сейчас Шурик остановился перед нами, цепко поставив руки на бока и подозрительно нас оглядывая. Уже месяц он не понимал, почему при его появлении на наши лица наползают ехидные гримасы. А причина была простая, как и все в жизни причины для смеха.
После приезда Шурик выразил желание питаться не в главном студенческом кафетерии, а в маленьком, темном и тесном кафе со столами, исцарапанными бессрочными надписями типа «Кэти, я люблю тебя». В этот же день мы сообщили Шурику, что для сотрудников университета в кафе устанавливают ежедневный пароль. Если его знаешь, то с тебя берут полцены. И мы сослались на «своего» человека из администрации, знающего эти пароли. Шурик напряженно ждал, металлические проволочки для выравнивания зубов светились надеждой. И она сбылась. Взяв твердое обещание о неразглашении тайны, подозрительно оглянувшись, мы прошептали: «Сегодня пароль «Белая лошадь». Шурик пошевелил губами для запоминания и сразу же направился к блондинистой что-то напевающей буфетчице. И хотя она была, скорее всего, скандинавских, тихих и медленных кровей, но каждый раз из-за своей пухлости и блондинистости вызывала в памяти крикливых, золотозубых советских буфетчиц привокзальных ресторанов и пивных ларей.
Следуя нашей инструкции, Шурик перегнулся через прилавок и горячо прошептал скандинавке в ухо: «Белая лошадь»! Буфетчица отпрянула, хотела что-то сказать, но вместо этого тихо икнула. Ее эмалированные глаза смотрели на Шурика с первобытным испугом. Потом в них мелькнула догадка, что перед ней душевнобольной, и она согласно и часто закивала. Тогда, уже не скованный конспирацией, Шурик легко произнес: «Суп, молоко, яблоко».
С тех пор он ежедневно узнавал от нас пароль и аккуратно передавал его буфетчице. Та при виде Шурика начинала для приободрения напевать и одновременно прятать ножи. А Шурик подходил с видом бывалого шпиона и жарко шептал: «Корабли покидают гавань», «Кинг-Конг обрывает веревки», «Страус побеждает орла» или еще какую-то нелепую чушь. После этой ахинеи он вносил плату полностью, но нам неоднократно повторял, как ощутима для него разница в цене.
Может, нас заела бы совесть за этот розыгрыш, но в последнее время Шурик стал вести себя заносчиво, туманно бормоча о каких-то секретных заданиях и своих безусловных способностях в области разведки. Поэтому и сегодня Шурик сообщил буфетчице, что «Капуста зацветет в понедельник».
Дальше мы пошли втроем. Время от времени Шурик публично фиксировал богатство природы: «Белочка», «Дерево», «Листок пахнет...» Потом, без всякой видимой связи, вдруг добавлял: «Ну, к примеру, женюсь я на негритянке, что скажут родители?» И надолго замолкал, так как его последние слова приводили к очередным военным действиям между плотью и душой.
А вокруг все занавешивалось прозрачным пепельным светом. Дурманно и мощно пахли цветы. Плывущая жизнь ощутимо обтекала нас. Видимо, от этого военные действия в Шурике прекратились, и он, глядя вмиг затуманенными глазами на плывущий мир, светло произнес:
- Пойдем к «Папе Джону»!
В ресторанчике «Папа Джон» готовили огромные пиццы. Мы любили хозяина, малограмотного испанского романтика. В детстве он мечтал вскочить на Росинанта, а ему купили билет в Америку, и он сделался владельцем пиццерии.
Но иногда слышалось ему с гор призывное ржание дон-кихотовского коня. И тогда он все бросал, жарил курей по старинному кордовскому рецепту и угощал всех знакомых и незнакомых. В такое время он ходил со стаканом рубинового матадорского вина, много плакал и пел одну и ту же печальную испанскую песню. За ним ходила его собака и иногда выла. Я узнал, о чем эта песня. Она о молодом погонщике, который спешил к любимой, загнал своего коня, а попал на ее свадьбу с другим.
Но еще не время было идти к папе Джону, и Алик, заломив руки, как провинциальный актер, укоризненно произнес:
- Нет, Шурик, это не этично, мягко говоря: насыщать свою плоть при голодающей душе. Подождите, пока ваша утомленная душа уснет...
Пристыженный Шурик тихо щелкнул зубами и опустил голову.
Когда мы вновь проходили мимо стоящего в окне Питера Саргуляна, из зеленых холмиков, оплетенных кустами малины, грустно заквакала местная лягушка по прозванью Маня. Лицо Питера Саргуляна напряглось, желтые желваки впитывали боль лягушечьих жалоб.
- Как это, - сказал он, - она кукарекает? О да, квакает. Я немноженько перепутаю это. Я всех лублу! Очшень трудно сказать, я могу по-английски, но я хочу по-русски... Я всех лублу и лублу лагушку.
На аллее появился Ваня-Джон, похожий сразу на всех рыжебородых рыбаков со старинных голландских картин. Как всегда, он был нерешителен, молчалив и слегка заспан. Он остановился, решая, в какую сторону идти. Питер его заметил и сказал:
- Ваня, иди мимо меня, хочешь что-нибудь, вина, кушать, пить, говорить?..
Ваня подошел к окну и продолжал молчать, не выказывая никаких желаний. В очередной раз квакнула Маня.
- Вот, - сказал Питер, - кукует.
- Квакает, - с отвращением поправил его Ваня, лучший студент школы.
- Сколько лет она наквакает мне?
- Они не квакают нашу жизнь, жизнь квакают кукушки, - ответил скрипуче Ваня и стал нерешительно уходить.
Питер смотрел вслед медленно передвигающимся огромным и грязным Ваниным кедам.
Вдруг оказалось, что на траве, теряющей в вечере последние краски, стоит группа русских преподавателей. Некоторые из них были известными писателями, историками, лично знали Бунина, Ремизова, Набокова. А про одного, сухонького, седенького, с глазами-булавочками, рассказывали, будто бы он не так давно говорил за кофе Керенскому: «Ну, Саша, бросьте позировать. Вы не в России, слава Богу, а я не женский батальон смерти...»
Случайно профессора стояли на фоне старинной университетской пушки. Так бы их запечатлеть на фото, именно так, со старинной пушкой, с растворяющейся в вечере травой, с этим сладким днем, приплывшем в их жизнь. И чтоб через много лет кто-то, рассматривая этот снимок, сказал: «Позвольте. Да ведь это же Александр Денисыч. А вот же супруга его, Анна Сергеевна, ну до чего ж симпатичная особа. А рядом-то Николай Владимирович... Милые мои... Ах, Боже ты мой, сколько годочков пронеслось».
Сейчас же они стояли возле пушки, и остатки дневного тепла грели их лица. Среди них были люди той высочайшей культуры, которая прививалась раньше.
Одного из них мы любили особо, за ум, за талант и главное - за уменье смеяться над собой. Сейчас он смотрел в неведомое будущее уже выцветшими, но еще голубыми глазами. Смотрел, спокойно прижмурившись, и видно было, что, как и все мудрецы, будущего он не боится. Серые и розовые тени бесшумными птицами мелькали по воздуху, по жизни, по лицам. Будущее тыкалось в руки мягким теплым ртом, а прошлое осталось за спиной беспрерывным, однозначным жужжанием шмеля.
Чуть хромая и немного волоча раненую ногу, прошел боковой дорогой гость школы - известный всей России писатель. По привычке любил он ходить боковыми дорожками. И надо сказать, хоть хромал, но ходил быстро. Студенты стали мгновенно отделяться от своих компаний и догонять его.
Они уже давно поняли, что он - старый любопытный мальчишка, только ставший из рыжего седым. Несмотря на жизнь в больших городах России и Франции и почти дворянское происхождение, было в нем много от лихого деревенского шофера-гармониста, еще бы восьмиклинку набекрень. Но когда он задумывается, когда подшофе, когда поблескивает сквозь сигаретный дым недобрыми щелками глаз, то случается метаморфоза: из деревенского шофера он превращается в молодого офицера, циничного, пропахшего войной, сорвавшего голос от спирта и команд под артобстрелом, пережившего смерть самых близких, безнадежно воюющего, верящего только в дружбу нескольких оставшихся в живых друзей.
Студенты догоняли его и шли за ним в желтое царство пива, где под пенное потрескивание так хорошо говорить, и уважать друг друга, и просто смотреть на писателя, которого знает вся, ну просто вся Россия.
Уже совсем стемнело, и прямо из темноты вышел с гитарой Фома из Флориды, по-настоящему его звали Том, и улыбка всегда занимала три четверти его веснушчатого лица.
- Ты лубишь, как я пою, - обратился он к нам, - я пою кантри мюзик, как по-русски? Да, народный мюзик.
Он сел на траву и сразу запел, мощно и резко колотя пальцами по струнам. На музыку вышло много народа. Воздух дрожал струнам в ответ. Как гриву коня, перебирал их Фома, и исповеди ковбоев летали вначале между нами, а потом улетали вверх.
Вдруг послышался отчаянно печальный, безнадежный крик.
- Поезд, - стали повторять все, а Фома перестал играть. Каждый день мимо университетского городка в это время проезжал товарный поезд. Пузатые вагоны вперевалочку, неторопливо огибали университет. Но главное, у дизельного «паровоза» был совсем живой, печальный клоунский голос. Подъезжая, он слезно предупреждал о себе, а уж через минуту прощался со всеми своим пронзительным, чудным голосом.
В эти минуты все останавливались, замолкали, смотрели вслед толкающимся вагончикам и до конца дослушивали прощание поезда, пока оно не пропадало совсем. И еще долго после этого стояли в оцепенении, которое и объяснить сами не могли.
А однажды, в очень дождливый и несчастный день, голос этого поезда послышался Питеру Саргуляну голосом умирающего слона, хотя он никогда не слыхал до этого, как кричат умирающие слоны. И в тот тяжелый день Питер вспомнил почему-то свою хриплоголосую армянскую бабушку, так плохо понимавшую по-английски.
Поезд уходил, оставляя за собой тоску. Вдруг он стал что-то кричать сквозь слезы прощания, как будто решился напоследок. Но издали казалось, что это кто-то за рекой дует в губную гармошку. А потом все стихло. И все пребывали в этой тишине, как будто еще чего ожидая.
Идя к «Папе Джону», мы вновь прошли мимо Питера Саргуляна. Он по-прежнему стоял в окне и о чем-то тихо говорил с небом. Переведя глаза на нас, Питер продолжил свой разговор:
- Мне не надо даже красный вино, я хотел бы красный закат, может быть, пинк, что значит «пинк»? Да, розовый закат. Чтобы еще был розовый файер, огонь на небе и в мой сердце... Это так... Это так хорошо.
Его глаза были как две сладкие переспелые сливы, и вдруг с их краешков покатились две слезинки. Питер стер их кулаком, как маленький мальчик, и сказал смущенно:
- Это ничего, будет лучше... Это бывают такие дни у человеков.
1990. Вермонт
В 1968 году я потерял одного за другим нескольких хороших друзей. Развели нас – во всех случаях, кроме одного – августовские события, разгром «пражской весны». «Вот ты возмущаешься нами, а я, представь себе, – чехами. Я за них кровь проливал, Прагу освобождал, а они себе «весну» устроили. Лучшей жизни захотелось? Ничего, пускай живут, как живем мы, их освободители!». Эти слова я, не веря своим ушам, услышал от ленинградского композитора и пианиста Е.В., с которым мы до того момента были едины во всем, что касалось любимой советской власти. «Володя, успокойтесь, – урезонивал меня в те трагические дни Ю.Я.В., известный лектор-музыковед, интеллигент старой закалки, свободно говоривший на европейских языках. – Я был на закрытой лекции, где человек из обкома нам доверительно сообщил, что западные немцы сконцентрировали на чехословацкой границе очень значительные силы. Если бы не мы, они бы вторглись первыми, и Чехословакия стала бы частью НАТО! Понимаете? Мы не могли иначе». «И вы поверили этой байке?» – изумился я. И вспомнил собрания двадцатилетней давности, на которых Ю.Я. громили за безродный космополитизм и пропаганду музыки антинародных композиторов-формалистов Шостаковича и Прокофьева. Держался он стойко, в грудь себя не бил и, казалось, уже тогда прекрасно понимал суть режима. И вот на тебе – он с ним, родимым, заодно, имперский комплекс из подсознания вылез...
После 21 августа мой дружеский круг несколько поредел, но расхождения так и не привели к полному разрыву. Отношения охладились, но кое-как продолжались – не в пример конфликту, который случился чуть ранее и совсем по другому поводу. Впервые в жизни я перестал подавать руку другу. И вряд ли подал бы сейчас, хотя, может, и стоило бы поостыть – ведь четыре десятка лет протекло с тех пор, да и сам я не без грехов (об одном из них – ниже). Но очень уж мерзким был поступок, как на него ни посмотри, хоть этически, хоть практически: Ленинград лишился замечательного музыканта. Сотворивший же эту мерзость приятель получил, напротив, ощутимую пользу – был вознесен на весьма высокий номенклатурный пост.
Эпизод этот всплыл в моей памяти по прочтении великолепного рассказа Иона Дегена «О пользе духовых инструментов», опубликованного в «Заметках по еврейской истории» в марте 2009 года. Под одним из откликов на рассказ увидел подпись: Игорь Блажков. И тут же вспомнил высокую статную фигуру молодого дирижера, ассистента Мравинского, яркого, многообещающего музыканта, талантливого и вдумчивого интерпретатора старинной и современной музыки.
…Апрель 1968 года. В Доме ленинградских композиторов на Герцена 45 (теперь это, как и встарь, Малая Морская) встречаю моего учителя Михаила Семеновича Друскина.
– Слышали, что учинил по радио наш Толя Коннов?
– Нет, а что?
– Хулиганский наскок на Игоря Блажкова. Форменный донос – под видом радиорецензии...
До сих пор жалею, что не был на этом концерте: так я больше и не увидел за дирижерским пультом Игоря Ивановича Блажкова перед его изгнанием из Ленинграда и вынужденным возвращением в Киев. Когда опала – усилиями Мравинского – была снята и Игорь (в 1977 году) вновь начал выступать в Северной столице, я уже был за океаном. Но возмутившую Друскина «рецензию» послушать удалось той же весной 1968-го: кто-то из моих знакомых ухитрился достать запись.
Толя, построивший передачу как репортаж из концертного зала, начал с критики программы: эта музыка, дорогие радиослушатели, – не для нас с вами, любителей реалистического искусства. Тут явный расчет на особую публику, на снобов, на музыкальных стиляг, падких на модненькое и остренькое. Впрочем, концерты этого дирижера всегда вызывают нездоровый ажиотаж...
О том, что исполнялось в тот вечер в зале имени Глинки, мне напомнил Игорь Блажков, ныне проживающий в германском городе Потсдаме:
«Концерт Ленинградского камерного оркестра под моим управлением в Малом зале Филармонии состоялся 1 апреля 1968 г.
Программа:
1 отделение:
Перселл – сюита «Гордиев узел разрублен»,
Шютц – 3 священных симфонии – "Venite ad me", "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr", "Wie ein Rubin";
2 отделение:
Сильвестров – Симфония № 2 для флейты, ударных, ф-но и струнных (1-е исполнение),
Шёнберг – Серенада, соч. 24 (1-е исполнение в СССР)».
Игорь Блажков
Думаю, что у прежнего Толи Коннова, пытливого и смышленого паренька из Самары, ученика выдающегося музыковеда (моего неофициального ментора) Александра Наумовича Должанского, хватило бы ума и профессионализма оценить оригинальность и смелость программы: сопоставлены век XVII и век XX, великие мастера эпохи барокко – Генрих Шютц и Генри Пёрселл – соседствуют и перекликаются с представителями двух поколений новаторов – отцом музыкального авангарда Арнольдом Шёнбергом и молодым украинским композитором Валентином Сильвестровым. Но первого апреля 1968 года в концертный зал на Невском явился новый Толя Коннов – счастливый обладатель ленинградской прописки и штатной должности на Ленинградском радио. Скромному провинциальному мальчику был поручен важный участок идеологического фронта. Доверие следовало оправдать, успех – закрепить и развить. И тут Толеньке повезло вторично: Министерство культуры СССР вплотную заинтересовалось репертуарной политикой Ленинградской филармонии. Интерес был не случайным и отнюдь не академическим. К первому заместителю Фурцевой, музыковеду и чиновнику Кухарскому поступил донос, который, согласно цитированному письму Игоря Блажкова, прислал «ныне процветающий композитор и профессор СПБ консерватории. Доноситель из ревности и зависти написал, что я исполняю в концертах Ленфилармонии "сомнительные" сочинения. Кухарский прислал комиссию по проверке репертуара филармонии за последние 5 лет. Комиссия просматривала программы филармонии, выписывала "сомнительные" сочинения и исполнителей; почти всюду стояла фамилия – Блажков».
В то время как министерская комиссия занималась скучной канцелярской работой, Толя Коннов, вооружившись портативным магнитофоном, отправился прямехонько в концертный зал, где пропагандиста сомнительного репертуара можно было поймать с поличным. Репортаж отдавал то иронией, то сарказмом, а когда дело дошло до демонстрации фрагмента из камерной симфонии Сильвестрова, Толя смодулировал в наигранную шутливость: «ах, ошибся я, простите – совершенно случайно пустил музыку наоборот, с конца к началу. Сейчас сыграю, как написано... Ну как? Не правда ли – никакой разницы! Хоть вперед крути, хоть назад – бессмыслица какая-то, случайный набор звуков».
«Репортаж Коннова я не слышал, но мне о нём рассказали. В нём Коннов пустил с конца к началу фрагмент симфонии Сильвестрова. Я написал протест Лен. комитету по радиовещанию, который остался безответным...», – вспоминает Блажков в том же письме. Свой протест я выразил лично автору передачи, встретив его в коридоре возле музыкальной редакции Ленинградского радио. Толя расплылся в приветственной улыбке и протянул руку.
– Извини, но отныне я тебе руки не подаю.
– Это почему же?
– После того безобразия, которое ты устроил по радио, считай, что мы с тобой не знакомы.
– Но я высказал свое личное мнение! Только и всего! У каждого может быть своя точка зрения! Если ты не согласен, выступи по радио и скажи.
– Ты что, серьезно?! Или у тебя шутки такие дурацкие? Кто меня подпустит к микрофону, кто позволит хоть слово вякнуть против твоей партийной точки зрения?
Партия в долгу не осталась. Толя немедленно получил свои тридцать сребреников. Получил в два приема. Вначале – премию Ленинградского комитета по радиовещанию за лучшую передачу месяца: Коннов, оказывается, создал яркий образец боевой журналистики, блестящий пример того, как нужно разоблачать идейно чуждые явления в культуре. Затем отличившийся журналист был назначен на ответственный пост инструктора в отделе культуры Ленинградского обкома КПСС. В этом новом качестве Толя пожаловал в Дом композиторов на открытие выставки талантливого скульптора и художника-нонконформиста Гавриила Гликмана, ваявшего и рисовавшего известных композиторов прошлого и настоящего. Мы с ним дружили, незадолго до моего отъезда из СССР он написал большую картину, названную «Песни Галича». На ней в мрачной экспрессионистской манере был изображен я с гитарой: по словам Гавриила Давыдовича, именно от меня он впервые услышал композиции замечательного поэта-певца...
Я едва узнал Коннова, когда он появился в проеме дверей старинного особняка, построенного Монферраном неподалеку от возводимого им Исаакиевского собора. Новоиспеченный сотрудник обкома был облачен в отличный темный костюм, яркий галстук и ослепительно белую рубашку. Гигантский контраст с более чем скромными пиджачками и брючками, в которых он проходил всю свою предыдущую жизнь. Поднявшись по невысокой мраморной лестнице, Толя осторожно покосился на меня, ожидая моей реакции. Я отвернулся. Примирение не состоялось. Выставка Гликмана, кстати, закрылась, едва начавшись. И притом с большим скандалом: кто-то признал в картине «Комиссар» полузабытые черты Льва Давидовича Троцкого... Уж не представитель ли обкома проявил партийную зоркость и распорядился очистить Дом советских композиторов от работ, чуть ли не каждая из которых вызывала подозрительные ассоциации, работ, проникнутых тревогой, трагизмом и духом творческой свободы?
У меня была личная причина не любить обкомовских контролеров культуры. Сравнительно недавний предшественник Коннова в начале 1963 года явился инкогнито на мою лекцию в одном из модных в то время «университетов культуры». К тому времени он уже был отстранен от должности за чрезмерное усердие, проявленное в последние годы сталинщины. Как видно, наломал слишком много дров. Но как только новый Хозяин начал (в конце 1962-го) учить уму-разуму деятелей искусства, слегка расслабившихся в атмосфере им же устроенной оттепели, проштрафившийся инструктор повеселел, встрепенулся и стал рыскать по городу в поисках крамолы. И нашел ее на лекции-концерте о русской музыке во Дворце культуры имени Кирова на Васильевском острове. Молодой лектор-музыковед, член Союза композиторов СССР, среди бела дня совершил идеологическую диверсию: зачитал со сцены неопубликованное стихотворение, осуждающее политику партии в области искусства.
Я только что вернулся из Москвы с совещания музыкальных лекторов, где моя московская коллега вручила мне рукописный листок со стихами Евтушенко, написанными после премьеры (в декабре 1962 года) оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (в новой редакции – «Катерина Измайлова»), запрещенной после знаменитой погромной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки».
...И тридцать лет почти пылились ноты,
И музыка средь мертвой полутьмы,
Распятая на них, металась ночью,
Желая быть услышанной людьми...
Лекция моя была о русской музыке XIX века, до Шостаковича надо было ждать еще месяца два, но мне не терпелось поделиться новинкой. Выход был найден: я рассказал о московском совещании лекторов и о том, что там мне удалось познакомиться с новым стихотворением Евтушенко о возрожденной опере Шостаковича. И выразил уверенность, что оно вскоре будет опубликовано...
Через несколько дней Правление Ленинградского союза композиторов решает лишить меня на шесть месяцев права чтения публичных лекций. Мера пресечения была ответом на два «сигнала»: гневный звонок из обкома и заметку в «Вечернем Ленинграде» – о том, что музыковед Фрумкин в своей профессиональной деятельности игнорирует новейшие усилия партии и правительства на культурном фронте. О факте публичного чтения Самиздата газета предпочла умолчать. Правление предложило мне написать в стенгазету Дома композиторов (а как же без стенгазеты в советском учреждении!) покаянное письмо и обещало в обмен на него снять запрет на чтение лекций. Я выжал из себя несколько строк: надо быть требовательнее к себе и не использовать в лекциях – в погоне за сенсацией – материалы, к теме лекции не относящиеся. За это мое туманное покаяние мне досталось от Сережи Слонимского. Зря ты на это пошел, сказал он. Никаких уступок этой власти, никаких компромиссов! Мой друг был прав. Я проявил слабость – и это одно из пятен, лежащих на моей совести...
Но вернемся к событиям 1968 года. Они разворачивались быстро и неумолимо. 21 июня состоялось заседание Коллегии Министерства культуры СССР по вопросу репертуарной политики Ленинградской филармонии. 1 июля Игорь Блажков был уволен. Вот что он рассказал через много лет газете «Коммерсантъ» (№ 92, 30.05.2001):
«Было предложение лишить меня права выступать на концертной эстраде, но ограничились рекомендацией меня уволить. Материалы коллегии разослали во все концертные организации СССР – это означало волчий билет. Нашелся только один человек – директор Укрконцерта Кулаков: он меня буквально "внедрил" в Киевский камерный оркестр и прятал от нашего министерства».
Интервью в «Коммерсанте» открывается преамбулой, проливающей свет на то, как сложилась дальнейшая судьба Игоря Ивановича Блажкова:
«Главным событием фестиваля "Петербургская музыкальная весна" стало возвращение на петербургскую сцену легендарного дирижера Игоря Блажкова. Апостол новой музыки в Ленинграде 1960-х, он играл Шенберга, Вареза, Денисова и прочих "формалистов и декадентов", переписывался со Стравинским и Юдиной и возродил к жизни Вторую и Третью симфонии Шостаковича. Не меньше Блажков прославился исполнением музыки старинной».
Другая жертва радиодоноса Коннова, Валентин Сильвестров, был исключен из Союза композиторов Украины в 1970 году. Выжил, не сломался, продолжал (и продолжает) работать. Заглянем в Википедию:
Валентин Сильвестров
Сильвестрову принадлежат семь симфоний, два струнных квартета, вокальные и хоровые сочинения. Он работал в кино (среди прочего, им написана музыка к фильмам К. Муратовой «Чеховские мотивы», 2002; «Настройщик», 2004)... Тесно и сложно связанное с музыкальной традицией, особенно – немецким романтизмом (Р. Шуман), со звучащим поэтическим словом, творчество С. – один из наиболее глубоких образцов современного, пост-авангардного мелодического языка... О композиторе снят документальный фильм Анатолия Сырых «Валентин Сильвестров. Тихие песни» (1992). (А также кинофильмы: Лили Оливье «Незаконные дети Веберна», Франция, 1994, и Дориана Супина «Диалоги. Композитор Валентин Сильвестров», Эстония, 2008. – В.Ф.). Он удостоен Международной премии С. Кусевицкого (США, 1967), премии Международного конкурса композиторов «Gaudeamus» (Нидерланды, 1970), Государственной премии им. Т. Шевченко (Украина, 1995), ордена «За заслуги» (1997), ордена «За интеллектуальную отвагу» журнала «Ї» (2004).
Мои попытки найти в Интернете послужной список Анатолия Коннова увенчались более чем скромным результатом. Его перу, как оказалось, принадлежит один единственный опус, к тому же написанный в соавторстве:
Коннов А.П. Государственный Ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова / [А.П. Коннов, И.В. Ступников]. – Л.: Музыка, 1976. - 158 с.
Указ Президента Российской Федерации
от 25 сентября 2000 г. N 1694
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги в области искусства присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОННОВУ Анатолию Петровичу – музыковеду, город Санкт-Петербург
Президент Российской Федерации
В. Путин
За какие же такие заслуги выпала тебе столь высокая честь, милостивейший Анатолий Петрович? Неужто за 186-страничную книжку о Мариинском театре, созданную тобой на пару с И.В. Ступниковым? Или за что-то другое, к музыковедению прямого касательства не имеющее? Может, объяснишь при случае? Если не мне (отношений между нами нет и не будет), то хоть кому-нибудь, но непременно – публично.
«Что ты знаешь о Коннове, где он и что он?» – спросил я у моей бывшей ученицы, профессора Санкт-Петербургской консерватории, автора музыковедческих трудов, получивших международное признание. Вот ее ответ:
«А. Коннова вижу на концертах. Благообразный седой господин. О его и его младшего брата грязной роли в травле М.С. (Михаила Семеновича Друскина. – В.Ф.) и о чудовищном обсуждении в 1975 году книги М.С. о Стравинском я написала в очень большом материале, который включает в себя стенограмму этого обсуждения... А. Коннов – одна из самых темных личностей. Андрей Петров очень помогал Мих. Сем. избегнуть гонений Коннова».
Игорь Иванович Блажков (род. 23 сентября 1936, Киев) — украинский дирижёр.
Окончил дирижёрский факультет Киевской консерватории (1959, класс Александра Климова), работал в Государственном симфоническом оркестре Украины. Переписывался с выдающимися музыкантами Запада — в том числе с Карлхайнцем Штокхаузеном и Игорем Стравинским, участвовал в подготовке гастролей Стравинского в СССР (1962). Затем учился в аспирантуре Ленинградской консерватории у Евгения Мравинского, в 1963—1968 гг. работал под его руководством в Симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. После почти 30-летнего перерыва исполнил Вторую и Третью симфонии Дмитрия Шостаковича. Был уволен решением Коллегии Министерства культуры СССР за исполнение авангардной музыки (Луиджи Ноно, Арнольд Шёнберг, Антон Веберн, Эдгар Варез, Чарльз Айвз и др.).
В 1969—1976 гг. возглавлял Киевский камерный оркестр, с которым исполнил множество редких и забытых сочинений — в том числе по архивным материалам из собрания Берлинской Певческой академии, вывезенного из Германии после Второй мировой войны и хранившегося в Киеве. Продолжал исполнять и произведения новейших композиторов (в частности, Валентина Сильвестрова и Андрея Волконского). С 1983 г. руководил камерным оркестром «Перпетуум мобиле» Союза композиторов Украины. В 1988—1994 гг. художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Украины. Затем был уволен и остался без работы, в результате чего в 2002 г. эмигрировал в Германию. Живёт в Потсдаме.
По словам одного из критиков, он «известен как дирижёр, которому современные композиторы доверяли ноты с ещё не высохшими чернилами, как музыкант-просветитель, неутомимый исследователь и реставратор забытых шедевров мировой музыкальной литературы». Другой обозреватель называет Блажкова «одним из главных украинских музыкантов ХХ века». В общей сложности, как утверждается, впервые исполнил около 400 произведений.
Мы давние друзья, и потому наша беседа началась с личных воспоминаний.
- Представь, Володя, начало семидесятых годов, мой Петропавловск Северо-Казахстанской области, редакцию областной партийной газеты "Ленинское знамя". Я приехал из командировки и пишу материал в номер. О том, что комиссия одного совхоза проверяла в соседнем совхозе, как там отремонтировали технику к весеннему севу. А потом комиссия из этого совхоза приедет в тот совхоз...
- Соседям ремонт техники у соседей нужней, чем хозяевам, так это выглядело? Помню: мы, студенты, каждый год отправляемые "на картошку", принимали на ферме роды у коровы. Где в это время были и чем занимались хозяева, неизвестно.
- Все это идеально укладывалось в общую атмосферу советского абсурда. На страницах газет ученые(!) рекомендовали, как лучше и чем запаривать солому, чтобы коровы ее, солому(!), могли есть. Значит, коровам есть нечего; а рядом - репортажи о перевыполнении планов, и на каждой странице - решающий год пятилетки, определяющий год пятилетки...
- Я жил в Ленинграде, но атмосфера была та же. В народе уже новый календарь недели составили: понедельник - начинальник, вторник - определяльник, среда - решальник...
- В нашей редакции работал выпускник вашего Ленинградского университета Боря Тимохин. Переводил непереведенные в СССР рассказы официально признанных у нас англо-американских писателей и печатал их в нашей провинциальной партийной газете.
- Замечательно!
- В тот вечер, когда я строчил в номер репортаж о взаимопроверке, а народ вокруг уже употреблял вечерний портвейн, Боря Тимохин принес в нашу компанию маленькую зеленую книжку на английском. Лимерики Эдварда Лира. Читал их на английском, потом в своем переводе, а затем уже кем-то переведенные на русский:
Негодяй по фамилии Бэд
В старых дев разряжал пистолет.
Горожане узнали - пулемет ему дали.
Старых дев больше в городе нет.
Это было ошеломительно. Эдвард Лир пришел в редакцию областной партийной газеты "Ленинское знамя" как наш друг и товарищ по миру абсурда, смеющийся над ним. Мы-то смеялись не часто, мы жили в нем и свыклись с ним.
- У меня есть маленький секрет про этот лимерик, но я оставлю его на потом. А пока вернемся к Лиру, который пришел к вам через 100 лет после смерти. Английский поэт, художник и композитор XIX века Эдвард Лир(1812 - 1888) был одним из основоположников так называемой поэзии нонсенса, абсурда. С его именем прежде всего связывают лимерики - пятистишия, которые Оксфордский словарь 1898 года определил как "непристойную поэтическую бессмыслицу". В лучшем случае лимерики до Лира были, мягко говоря, нескромными. Но Лир совершенно изменил их направление. Сам он писал: ''Чтобы не было возможности ошибочно истолковывать то, что я сочиняю, повторяю: ''Абсурд, чистый и абсолютный, - моя единственная цель, всегда!'' После выхода первой "Книги Абсурда" в 1846 году Англию, а вскоре и Америку охватила Лиромания. Только до конца его жизни вышло 25 изданий.
- По тем временам - что-то непредставимое. В чем секрет?
- Свои "бессмыслицы" Лир писал для детей...
- Как впоследствии Льюис Кэролл "Алису в стране чудес"...
- То было викторианское время. Дети росли в атмосфере строжайших правил. И вдруг Лир своими стишками открыл для них совершенно другой, безумно смешной мир, где ужасно строгие взрослые превращаются в толстых капризных шарообразных стариков или, наоборот, становятся такими тонкими, что их незаметно запекают в пирог; эти строгие взрослые падают в горячий бульон и летают на мухах, носят парики в рост человека, имеют носы до пола и, вообще, постоянно оказываются в дурацких ситуациях. Я бы назвал абсурд Лира ОСВОБОЖДАЮЩИМ. Именно поэтому неожиданно для самого Лира его лимерики подхватили взрослые.
- Вчерашние дети, выросшие в жестких правилах...
- Вот именно. Вполне респектабельный английский критик Джеки Вуллшлейгер писала: "Тот, кто мечтает удрать из однообразной серой реальности, будет чувствовать себя как дома в абсурдном мире Лира". Англичане уходили от рутины, от напряжения, от бесцветной жизни в мир абсурда лимериков, чтобы снять это напряжение, расслабиться.
- Володя, ты мне все объяснил! Теперь я понимаю, почему Эдвард Лир занимает, на мой взгляд, особое место в русском сознании. Ведь советский человек жил в таких рамках, по сравнению с которыми викторианские правила - разгул свободы. И в то же время - в мире официального, утверждаемого пропагандой абсурда. Нашими лимериками ОСВОБОЖДЕНИЯ сознания были частушки-нескладушки. Советская народная частушка все больше тяготела к пародии, высмеивала официальные и свои же, народные, массовые идеологемы:
С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Ничего, что все пропало -
Лишь бы не было войны.
А в семидесятые годы пришел черный юмор:
Я спросил электрика Петрова:
"Отчего у вас на шее провод?"
Ничего Петров не отвечает -
Лишь висит и ботами качает.
И еще двустишие, может быть, самое знаменитое из той серии:
Мальчик в деревне нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
- Это двустишие примечательно еще и другим - на его основе у нас в Америке возник классический по форме лимерик:
Мальчик в деревне нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
Город тоже сражен
Пулеметным огнем...
Где ж он, падла, патроны берет?
(Andy aka Colorado)
- То есть произошло формальное и неформальное соединение английской поэзии абсурда с русской. На основе русского фольклора и английского лимерика.
- Кстати о слиянии, открою тебе мой секрет: лимерика, который ты прислал мне, про негодяя Бэда, - у Эдварда Лира нет.
- Как так?
- Дело не в том, что во времена Лира и Пушкина пулемет еще не изобрели - тут можно сослаться на вольное изложение. Вообще никакого Бэда у Лира нет! Я нашел похожий лимерик неизвестного автора:
There was a young fellow named Sistall,
Who shot three old maids with a pistol.
When 'twas known what he'd done,
He was given a gun
By the unmarried curates of Bristol.
Автор, повторю, неизвестен. Дословный перевод:
Жил-был парень по имени Систол,
Который застрелил трех старых дев из пистолета.
Когда стало известно, что он сделал,
Ему дали пушку
Холостые кураторы Бристоля.
Возможно, под "кураторами" неизвестный автор имел в виду попечителей старинного Бристольского университета. Видимо, переводчица Ольга Астафьева сделала вольное переложение народного лимерика, а уже молва приписала его Эдварду Лиру.
- Кому ж еще! И этот случай как нельзя лучше укладывается в легенду о жизни и стихах Эдварда Лира.
- Совершенно верно.
- А теперь, Володя, позволь представить читателям лимерики из "Книги Абсурда" в твоих переводах.
Дед на флейте играл кое-как.
Заползла ему кобра в башмак;
Он играл день и ночь,
Уползла она прочь,
Больше слушать невмочь – ну, никак!
Одной девушке в городе Ницца
Сели прямо на шляпу три птицы.
Ну, а ей хоть бы что:
''Пусть садятся хоть сто,
Хватит места всем птицам из Ниццы''.
Была дама одна из Прованса
Пребольшим знатоком реверанса;
Но она так крутилась,
Что в землю ввинтилась,
Тем расстроив всех дам из Прованса.
Жил старик со своею старухой,
Был он славен присутствием духа;
Он купил скакуна
И умчал, вот те на!
Бросив всех и родную старуху.
На горе умный дед из Кромера
Всё читал, поджав ногу, Гомера;
Затекли его ноги,
Чтоб размяться, о Боги!
Прыгнул в пропасть любитель Гомера.
Романтический старец из Трои
Тёплый бренди пил, смешанный с соей;
Пил он маленькой ложкой
В свете лунной дорожки
Под старинными стенами Трои.
Ночью милая квакерша Айки
Вышла замуж за деда с Ямайки;
Утром – вопли: ''О, Боже!
Муж-то мой – чернокожий!''.
Огорчен ловелас из Ямайки.
Худосочный старик из Берлина
Был тонюсенький, как паутина;
Он прилёг не на место,
И замешен был в тесто
Испечён – без корицы и тмина.
Один старец хотел научить
Разных рыбок по суше ходить;
Рыбки все до одной
Отошли в мир иной,
И умчался старик во всю прыть.
Жил старик в королевстве Непал,
Он с коня неудачно упал;
На две части распался,
Но клей отыскался –
Чинят всех в королевстве Непал.
Старичок жил на барже когда-то,
Его нос был большой, как лопата;
Для рыбалки в ночи
Ставил он две свечи
Прямо на нос, большой, как лопата.
Старикан из посёлка Сумы
Чуть не умер зимой от чумы;
Он лишь маслом питался
И, как грузчик, ругался,
И избавился так от чумы.
- Володя, последний лимерик, написанный 150 лет назад, вроде бы имеет сегодня научное продолжение. Слышал, журнал Time писал, будто люди, часто употребляющие ненормативную лексику, проще говоря - мат, живут дольше. Мол, бранные слова, произнесенные даже мысленно, являются своеобразным способом нервной разрядки. У ругающихся испытуемых в крови отмечены низкие уровни гормона стресса - кортизола, и высокие показатели гормонов радости - эндорфинов.
- Были такие материалы. В номере от 16 июля 2009 года - статья об экспериментах английского психолога профессора Ричарда Стивенса. Стивенс, в свою очередь, ссылается на профессора Пинкера из Гарварда. Они утверждают, что, в частности, сквернословие повышает болевой порог. Объясняют это тем, что у наших предков, живших в боях и походах, привычка к крепким выражениям способствовала увеличению агрессии и снижению чувствительности к боли.
- Если так, если это не розыгрыш, то можно сказать, что Эдвард Лир не только живее всех живых, но и впереди науки всей.
Москва – Детройт.
Рисунки Эдварда Лира.
Так называют положение в шахматах, когда надо ходить, но, что бы ни сделал, все ведет к проигрышу…
Так уж случается, что королева, всесильная и блистательная, при одном появлении которой падают в обморок пажи и, бледнея от любовного волнения, стреляются молоденькие офицеры стражи, в силу позиции, исключительно позиции – стесненности тупоголовых пешек, неповоротливости ладьи, нерешительности слонов - начинает вдруг, сама того от себя не ожидая, благосклонно поглядывать на щупленького старичка в тяжеленной короне, робко взирающего на нее с соседнего поля. И король, который всю жизнь привык ходить осмотрительно, как подобает королю, шаг за шагом, поскольку попасть в ловушку и пропасть - дело плевое в наше лишенное сентиментальности время, увидев лицо королевы анфас, теряется.
Был вечер приезжих русских поэтов. Их было двое. Один из них, взрослый мальчик с большой головой, в клетчатой застиранной рубашке, аккуратно застегнутой на все пуговки, походил скорее на сельского счетовода, чем на поэта. Высокорослая, с короткой стрижкой поэтесса читала стихи легким баском. Она сидела в лагере и продолжала в стихах, как и до него, резать правду-матку. Когда ее представили публике, поэтесса сказала с немалым пафосом, что поклонилась Богу за то, что сподобилась побывать в Америке. Аудитория содрогнулась. Счетовод, в свою очередь, стесняясь, пробормотал, что если бы ему еще полгода назад сказали: он будет читать стихи в Нью-Йорке, он подумал бы, что над ним неостроумно подшучивают.
В перерыве Михаил Львович увидел знакомую профессоршу. Она его обняла: «Ах-голубчик-рада-вас-видеть!» Сначала он удивился такому радушию - они были вовсе не близки. Потом вспомнил, что профессорша недавно потеряла мужа. Должно быть, погибает от одиночества, рада любому знакомому лицу. Она была по-русски сентиментальна, во время своих семинаров, когда речь заходила о судьбах русских поэтов, не стесняясь аспирантов, переходила в слезы и чем-то (впрочем, почему «чем-то»? Ясно чем! И обликом, и голосом) напоминала одну из великих отечественных поэтесс.
Рядом с ней и стояла Инга, ее любимая аспирантка. Ей было не больше тридцати, и Михаил Львович сразу сбросил ее со счетов как слишком молодую. Позже понял: не столько как слишком молодую, сколько как слишком красивую. Она была задумчива и даже стеснительна, и потому ее красота не бросалась в глаза. Инга стояла рядом и слушала, пока он и профессорша обменивались любезностями. Профессорша не догадалась представить их друг другу, и когда она, слегка тряся головой в старческом тике, отвернулась на минуту, увидев в толпе очередное знакомое лицо, Михаил Львович сам представился и удивился, что Инга с живостью и удовольствием протянула руку.
Она смотрела на него прямо, без какого-либо кокетства, которое волей-неволей возникает на женском лице при разговоре со знаменитостью, хотя он был таковой только в узком шахматном кругу. Был гроссмейстером, международным даже гроссмейстером, но слава его была далеко позади, лет за тридцать до этого дня. Теперь уже не было никакой особенной славы, а была устойчивая репутация вдумчивого игрока. Не проходило турнира, чтобы он не получал приза за красоту. Это необязательно означало победу. Он был уже далеко не в лучшей форме; ему уже трудно было тягаться с мускулистыми парнями нового гроссмейстерского поколения. Готовясь к турнирам и матчам, они каждое утро бегали рысцой, проплывали километры в бассейнах. К концу многочасовой партии Михаил Львович, увы, уже не выдерживал напряжения, срывался. Но его игра все еще захватывала любителей своим изяществом. Он участвовал в турнирах все реже, был скорее тренером и шахматным комментатором, чем игроком. Его анализы партий печатали в Америке и нескольких европейских странах. Вот, пожалуй, и все. Прямо скажем, не очень уж серьезное оружие на ристалище, где борются за женские сердца...
Михаил Львович опешил от Ингиного взгляда. Медленно развернув голову, она смотрела на него в упор темно-серыми широко расставленными глазами. К тому же она была блондинкой, той русой блондинкой, в которой трудно заподозрить подкрашивание. Впрочем, она была шведкой, и ее русость была естественной.
У гроссмейстера изредка случались романы. Сам он никогда их не искал. Если женщина сама делала первый шаг, он порой уступал. Романы были легкими, продолжались недолго. Вся жизнь Михаила Львовича была втиснута в шестьдесят четыре черно-белых квадрата, и заботы о шестьдесят пятом, на котором правила главной игры вдруг оказывались непригодными, были ему не под силу. Гроссмейстер каждый раз терялся, если женщина сердилась на него из-за того, что он хоть и позвонил, как обещал, сразу после партии, но забыл разъяснить то, что это может случиться следующим вечером, а может и днем позже, если партию отложат и будет доигрывание.
Шахматам он был обязан многим. Выдержкой. Стойкостью. Умением собрать волю в нужный момент. Наконец, оптимизмом. Пока на доске остаются хоть маломальские силы, всегда есть надежда. Сколько раз бывало: несмотря на страшные потери, держишься до конца, а там, глядишь, везет. Противник, чувствуя легкую поживу, расслабляется, начинает ошибаться... Давно стало привычкой и жизнь рассчитывать на несколько ходов вперед. Вот и сейчас он раздумывал, позвонить ли Инге. Что из этого может выйти? Какие тут могут быть варианты?.. Спокойно продумать этот, в сущности, обычный житейский ход мешало волнение. Это было нехорошим признаком. Он был убежден: как за доской, так и в жизни стоит упустить контроль над эмоциями, и тебе несдобровать. Когда внутри сумятица, редко удается выкарабкаться невредимым, не говоря уже о том, чтобы выиграть.
Он, по сути, ничего не знал об Инге. Знал только, что она божественно красива. «Почему красота ассоциируется с Богом? - впервые задумался он. - Почему так притягивает? Почему при встрече с ней замирает дыхание, то есть на мгновение останавливается жизнь? Как нечто по сравнению с красотой второстепенное? Может быть, тяготение к ней есть не что другое, как стремление к совершенству, абсолюту, вечности и, стало быть, к смерти? Поди разберись...»
Он, кончено, желал Ингу. Однако чем больше он думал о ней, тем меньше сама по себе интимная близость с ней значила для него. Гроссмейстер порой удивлялся, почему, когда встречаешь женщину необыкновенной красоты, физическое желание отодвигается, не ощущается столь ясно. Конечно, оно есть и, конечно, дает о себе знать, но не прямо, а исподволь, словно полуденное солнце в густом тумане.
Впрочем, чему удивляться!.. Не красота ли, в конце концов, была тем, что больше всего притягивало его к шахматам? Атака, которую посчастливилось провести по стройному, тщательно продуманному плану. Изящная и быстрая, в несколько коротких ударов шпагой, комбинация - и вот уже противник глотнул в изумлении воздух, будто под ним вдруг подломился мраморный пол, по которому он до сих пор беспечно прогуливался.
Гроссмейстер знал, что стремление к красоте игры во что бы то ни стало, часто вопреки логике позиции, - причина того, что он так и не стал чемпионом мира, как в свое время прочили ему многие, теперь забывшие о нем болельщики на его родине.
Он был опытным бойцом, но если соперник играл бездарно или, еще того хуже, «зевал», то, вместо радости от промаха врага, втайне досадовал. Хотелось не просто выиграть, а сделать это с помощью точного фехтовального выпада. Вульгарных ударов под вздох, к каким, не колеблясь, прибегали при случае более практичные, чем он, потому более удачливые игроки, Михаил Львович не признавал. Казалось бы, чего проще: чуть зазевается соперник, приоткроет скулу - всех-то делов, что вмазать по ней что есть силы, записать очередное очко и тут же встать со стула, разминая затекшие ноги и небрежно махая рукой секундантам. Можете, мол, передать покойничка на руки болельщикам и родственникам. От таких побед гроссмейстера всегда воротило, выигрыш доставлял мало радости. Красота же влекла к себе неодолимо. Вот и сейчас эта молодая женщина...
Трезвой частью разума, какой он обычно взвешивал очередное предложение принять участие в турнире, он решил - искать встречи с Ингой не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Уж очень молода. Уж очень красива... Но ее лицо плыло в воздухе рядом, едва ли не у самых глаз, не исчезало, как он внутренне ни отмахивался от него, сопровождало повсюду. Даже когда, устав и не надеясь уснуть, он закрывал глаза на полчаса, чтобы таким образом освежить мозг, Инга была тут как тут. Оно было совсем близко, так что он даже смог заметить белесый пушок на ее верхней губе.
Так продолжалось недели две. Гроссмейстер удивлялся своей неспособности отряхнуть от себя видение Инги и досадовал на себя. Ингину русую прядку над темно-серыми глазами он никак не мог забыть и, видя ее перед со6ой, чувствовал, что... Впрочем, он и сам не знал, что чувствовал. Только при мысли о ней нежность стояла в нем легким и теплым облачком.
Проведя как-то в одиночестве целый Божий день за разбором сложнейшей партии из очередного матча чемпионов, гроссмейстер почувствовал ту особенную усталость, когда утомляешься не только и не столько от слишком длинного, перегруженного работой дня, а наваливается на тебя самый худший вид усталости - усталости от жизни. Ему вдруг стало безразлично, вспомнит ли его Инга или нет, отзовется обычной светской любезностью или заговорит с теплотой, которую он почувствовал при знакомстве. Он позвонит ей, они поговорят просто так, о том о сем - и до свидания, навсегда прощай! Конец шведской партии… Так что бывало в последних турах больших турниров. Еще в дебюте, после первой дюжины ходов, уставшие игроки быстро соглашались на ничью и обменивались рукопожатиями в благодарности, что избавили друг друга от ненужных треволнений.
В последний момент, когда он уже направил руку к трубке телефона, он почувствовал тревогу. Что было тому причиной, он понять не мог. Ничего плохого, собственно, произойти не может. Почему бы и не позвонить?..
Как только он услышал низковатый голос Инги, случилось чудо: куда-то мгновенно подевались и усталость, и меланхолия. Она была рада звонку, и он, сам того от себя не ожидая, заговорил с подъемом и даже с неизвестно откуда взявшейся веселостью.
«Ну, поговорил и поговорил», - сказал он себе часом позже, усилием воли подавив волнение. «Теперь надо просто взять и забыть о ней».
Прошло два дня, и он снова позвонил Инге. Потом еще раз. И еще. Он с удивлением отметил, что жить в те дни, когда удавалось ее застать по телефону, было легче и светлее, чем в другие, когда ее не было дома и он слушал ее милый голос на автоответчике. Даже это волновало его...
Гроссмейстер не решался назначить свидание и ограничивался легкими разговорами, пересыпанными комплиментами, нередко двух-, а то и трехходовыми.
- Я пришел домой и прослушал запись на автоответчике, - сказал он однажды. - Там был ваш голос. Хорошо, что сейчас не лето и что моя комната выходит не в сад, а на бензоколонку. Иначе она наполнилась бы пчелами.
- Почему? - рассмеялась она, понимая, что последует что-то лестное.
- Ваш голос мог бы их привлечь.
Так оно и шло в течение нескольких недель. Телефонные звонки, приятные разговоры с легким налетом флирта, и больше ничего. Наконец однажды, поддавшись импульсу, который он испытывал в минуты озарения, когда делал ход не просчитывая, а лишь чувствуя, что ход этот даже если и не выигрывающий, то все-таки что-то обещающий - что-то хорошее должно обязательно получиться, если приподнять вон того незадачливого меринка и перенести поближе к осовелым от долгого безделья стражникам короля, - Михаил Львович пригласил Ингу в театр.
Инга откликнулась с искренней живостью, которая означала, что она давно ждала, когда же он сделает первый шаг.
- Чудесно! - воскликнула она.
Ободренный ее реакцией, он тут же предложил зайти после театра в кафе. Хотел он того ли нет, но получилось - он назначал ей свидание по всем правилам нью-йоркского любовного этикета.
Михаил Львович повесил трубку. На мгновение ему отчего-то стало не по себе, совсем так же, как в тот момент, когда он решился позвонить ей в первый раз. «Я просто трушу, - решил он. - Она молода и красива, я слишком стар для нее - мне стукнуло недавно шестьдесят шесть. Я беден и не совсем здоров. Что я могу ей предложить?»
Но ход уже был сделан, часы пущены, минутная стрелка двинулась по кругу. Дожидаясь встречи с ней, покойно висел между опасно заостренными пиками цифры одиннадцать алый стяжок, кажущийся ничем не примечательным, невинным цветовым пятном, существующим исключительно для оживления черно-белого циферблата. Михаил Львович решил продолжить партию. «В конце концов, - сказал он себе, - в любви, как и в шахматах, нужно следовать железному правилу: «тронул - ходи!».
Свидание было назначено на субботу, и в течение следующих нескольких дней его несколько раз охватывала паника. Что, если она вдруг позвонит и отменит встречу? Что он скажет в ответ? Не удержится и пробормочет что-нибудь вроде: «Я надеюсь, вы достаточно уважаете меня, чтобы сказать правду»?
«Мазохизм меня одолевает, что ли? - подумал он с досадой на себя. - Зачем мне нужна правда? Какое нужно объяснение, если женщина тебе отказывает? Тут тебе все и объяснение».
Михаил Львович волновался перед встречей с Ингой куда больше, чем перед турнирной решающей партией. Там он знал: все, что он может сделать для успеха, - это быть в хорошей форме, а в остальном положиться на фортуну. Здесь же такой простой подход не помогал. Среди прочего ему мерещилось, что вскоре после их последнего разговора Инга встретила какого-нибудь блестящего молодого человека, какого всю жизнь мечтала встретить, и теперь вряд ли захочет попросту тратить время на старичка-шахматиста. Почему она не позвонит и так не скажет…
«Что за чушь? – тут же останавливал он себя. - Что за желание ранить себя еще больше? Она не звонит, не отменяет свидание - все, значит, по-прежнему, как договорились. Я, кажется, совсем сошел с ума от этой шведской красавицы».
Проходили дни, телефон молчал, Инга встречу не отменяла, и Михаил Львович нет-нет да и подумывал, не отменить ли свидание самому. Найти какой-нибудь предлог: срочный вызов за границу... турнир... выход сборника его партий, к которым нужно срочно дописать комментарий… Неважно что, в конце концов. Главное - отменить. Он все думал, никак не мог понять, чем привлек ее. Такой, как Инга, должен подойти какой-нибудь, как пишут в американских брачных объявлениях, высокий привлекательный джентльмен, член совета директоров крупной корпорации, с загаром, приобретенным во время лыжных вылазок в Аспен, штат Колорадо, куда его регулярно доставляет частный самолет его же компании...
Прошли все без исключения дни, оставшиеся до встречи. Инга свидания не отменяла, и он тоже на это не решился.
Делать было нечего. Гроссмейстер поехал к ней на своем старом «бьюике». Его смущало, что дверь с пассажирской стороны открывалась только изнутри.
Поднимаясь на лифте, слушая его добродушное жужжание, Михаил Львович думал о том, что Инга, конечно, заслуживала длинного черного, сверкающего, как новая галоша, заказного лимузина с шофером в униформе и корзины цветов. Но гроссмейстер был беден и, хотя привык жить скромно, в первый раз по-настоящему пожалел, что не преуспел, как некоторые его коллеги. «Ну, что поделаешь, - вздохнул он. – И то хорошо, что проведу с ней вечер. Другого раза, скорей всего, не будет».
Он даже не очень удивился, что Инга, распахивая перед ним дверь, улыбалась не ему особенно, а каким-то своим мыслям. Гроссмейстер не ощутил обычного подъема, имя которому - «Тебя Ждут». Он огорчился, но в то же время почувствовал облегчение: надежды и так было мало, а теперь и совсем не стало. За долгую шахматную жизнь он научился переносить поражения. Конечно, всякий раз расстраивался, но вскоре брал себя в руки. Встречаясь же за доской с выдающимся игроком, с легендой, зная задолго до того, как пустят часы, что продуешься, поражение и вовсе не ощущаешь трагически.
Михаил Львович протянул Инге розу на длинном стебле, завернутую в аккуратный подарочный кулек; ее бутон казался искусно свернутым лоскутом тяжелого бордового, с темным отливом, шелка. Цвет розы показался ему чересчур смелым для первого свидания. Надо было бы поискать какую-нибудь побледнее, но он опаздывал, район вокруг Нового Нью-Йоркского университета, в аспирантском общежитии которого жила Инга, был незнакомым, и он решил не рисковать, что может опоздать. В сущности, детали не имеют значения: больше чем на одну встречу рассчитывать все равно не приходится...
Инга приняла розу без особого удовольствия, даже не показала, что рада подарку. У него и вовсе упало сердце: «Не удивишь ее розой. Привыкла, привыкла к мужскому вниманию красавица шведских дворянских кровей - кажется, так о ней сказала профессорша...»
Инга предложила что-нибудь выпить. Михаил Львович почему-то испугался алкоголя и попросил кофе. Было неловкое молчание. Ему всегда было трудно вести непринужденную болтовню, особенно с красивой и молодой женщиной.
- Надеюсь, вас не беспокоит эта глупая музыка? – сказала Инга, направляясь на кухню. Только тут Михаил Львович обратил внимание, что и в самом деле в воздухе тихо плыла какая-то негромкая мелодия.
- Нет, нет, что вы! Пусть играет.
- Я жду песенку, которую очень люблю, - раздался Ингин голос уже из кухни. - Итальянская. Песенка глупая, но мне почему-то нравится.
- Я не знаю итальянского.
- Песенка - ничего особенного, но вот последний куплет... Этот образ в конце меня почему-то волнует.
- Переведите.
Она появилась в створе кухонной двери, посмотрела на него, усмехнулась и отвела глаза в сторону.
- Песенка слишком уж меня выдает.
- Все же...
Он настаивал по инерции, хотя, видимо, настаивать не должен был. Он не ощутил в ее голосе никакого особого тона, в котором можно было услышать обещание, но он нервничал, боялся упустить нить разговора.
- Ну, что же... - сказала она с улыбкой, как бы говоря: «Вы сами напросились». - Это песня волчицы. Последний куплет о том, как она видит себя окруженной кучей своих волчат.
Инга любовно похлопала ладонью по воздуху вокруг себя, как бы по крутолобым головкам зверенышей. Действительно, она сказала о себе много. Куда больше самих слов, говорил тот факт, что она открылась ему. О сокровенном говорят либо с близким человеком, либо с тем, кто вовсе не в счет. Так, случайный попутчик в поезде дальнего следования, кому сходить на ближайшей остановке. Ясно было, что отнести себя он должен к последним. В конце концов, они видятся только во второй раз... Он понимал, что вряд ли из него может выйти отец будущих детенышей, появления которых жаждала эта породистая шведская волчица. В ней и в самом деле было нечто прекрасно-звериное. Быть может, прямой взгляд широко расставленных глаз и та грациозность, с какой она поворачивала голову, чтобы посмотреть на него во время разговора. Лицо Инги было покойно - так уверен в себе здоровый и сильный зверь.
Она принесла из кухни кофейные чашки. Для уюта поставила на низкий столик короткую свечку и убрала верхний свет, оставив боковой, от торшера. Он подумал о том, что она проделывала этот несложный ритуал много раз. Другие, ее добивавшиеся (а имя им, должно быть, легион), бывали в этой аспирантской квартирке, толпились викинги, а то и некоронованные принцы. Из так называемых хороших семей, элитарного университета элитарные молодые люди. Конечно, куда ему с ними тягаться! И все-таки каким-то чудом он оказался здесь ...
Свечка, которую Инга поставила перед ним, едва занявшись, погасла. Инга едва заметно усмехнулась.
- Do you believe in omens?[*] - сказала она и спокойно посмотрела ему в лицо.
Как тут быть? Что бы он ни ответил, было бы гибелью, безрадостным концом так и не расцветшего романа. Скажи он «да», и все кончено. Сам признал всю мглистость и бесперспективность своего визита. Сказать «нет» было бы жуткой самонадеянностью, претензией, которая обычно за доской вызывает у соперника ироническую усмешку. Он ужаснулся от того, как неожиданно быстро очутился в трудной позиции. «Белые стали испытывать затруднения уже в самом начале дебюта», - четко сложилось в голове. Неужели он попался на элементарную ловушку, на трехходовой - «детский» - мат? Такое с ним не случалось лет, кажется, с шести, когда он только начинал играть. Мат позорный, даже издевательский.
Михаил Львович был готов к тому, что проиграет, но полагал, что произойдет это куда позднее, в самом конце вечера, в результате сложного маневрирования.
Он почувствовал себя полым ящичком, в который сгребают после игры шахматные фигуры. Поделом! Что он себе напридумывал? На голове у него вместо короны оказался дурацкий колпак, и королева, забавы ради, хлопала по губам бедного лысеющего короля шутовским бычьим пузырем с горошиной внутри - для глупого треска. До слуха Михаила Львовича явственно донесся топот коней королевской стражи. Мелькнули в воздухе копыта вставшего на дыбы коня на «f6», блеснули у самых глаз подковы, так что он успел заметить решетчатые шляпки добротно вогнанных гвоздей. В нос немедленно ударил терпкий запах лошадиного пота. Еще минута - и его подхватят под мышки и поволокут с позором вон. Он снова очутится в своей полуприбранной комнатенке с тремя шкафами шахматных книг во Флашинге, на дальней нью-йоркской окраине. Запах свежесрезанной розы и чистой, ухоженной женщиной квартиры сменится запахом вчерашнего, подгоревшего, кофе.
В то утро полусонный, еще в пижаме, он наскоро разогрел остатки кофе, хотя давно знал, что он ему вреден - стало пошаливать сердце. Но нужно было разобраться в «Каталонском дебюте» из последней партии матча претендентов на чемпионское звание. Анализ нужно было дать в газету в тот же день, и он торопился сбыть его с рук, чтобы освободить вечер. Вот и освободил, называется... Он подумал со стыдом, что хотя давно не молод, увы, все еще неосмотрителен. Мог бы уже набраться ума-разума! Ан нет - поддался импульсу, набрался чудовищного нахальства, пришел к Инге. Мелькнула мысль о том, чтобы извиниться и уйти без особых объяснений.
Как это случалось за доской в те минуты, когда он чувствовал близость поражения, коротко и больно сжалось сердце. Один, совсем один… Жена уже несколько лет, как оставила его. Она учительствовала, вечера проводила за тетрадками, уставала и относилась к его шахматным делам, по меньшей мере, с прохладцей. Когда он возвращался с турнира после двух, а то и трех недель разлуки, она часто забывала даже задать дежурный вопрос «Как сыграл?». Ему иногда казалось, что в ее глазах он был чем-то вроде коммивояжера.
Он размышлял обо всем этом, когда услышал, что говорит на этакой бравурной нотке:
- Я, Инга, с «оменами» на короткой ноге. Иногда поговорю с ними как следует, и они передумывают.
Она взглянула на него ласково, во всяком случае, доброжелательно. Оценила остроумие. Каким-то чудом он удержался на краю неожиданно развернувшейся пропасти.
Дрожание под коленками оттого, что он так быстро, едва начав партию, не потерпел поражение, повторилось еще несколько раз в течение вечера. Он испытывал непонятную тягу, знакомую всякому, кто избежал гибели: хотя понимал, что делать этого не нужно, возвращался к месту, где его испытывал рок, - к эпизоду со свечкой. Самим возвращением он как бы говорил Инге: «Я помню ту изящную ловушку в самом начале. Не считаю, что проиграл ту схватку, вот свободно напоминаю о ней».
Тема свечи возникла, по крайней мере, дважды в течение вечера. Первый раз – в театре, во время спектакля, когда герой пьесы принялся зажигать канделябры, Михаил Львович подождал, когда они занялись (то есть, когда помреж за кулисами двинул рычажок реостата), наклонился к Инге и прошептал: «Ему больше повезло».
Она улыбнулась.
Потом, после театра, в небольшом кафе Гринвич-Виллиджа, усаживая их за столик, официант с короткой косицей на темени и набором изящных серебряных скобок в правом ухе поставил перед ними короткую толстую свечу в небольшом пузатом сосуде из темно-вишневого стекла. Пока пламя успокаивалось, по Ингиным губам и щекам блуждали темно-розовые, цвета размытой крови, тени. Гроссмейстер сказал с улыбкой, что сегодня его определенно преследуют свечи. Инга усмехнулась и после паузы спокойно сказала:
- Я, конечно, могла бы поменять ее, но мне почему-то не захотелось.
И взглянула на него.
Оттого, что она сказала это с улыбкой, он не сразу даже ощутил удара.
Не хотелось, так зачем же все остальное? Зачем она здесь, с ним? Небрежность молодости, которая не соизмеряет своей силы, хлещет походя, уверенная в том, что безмерно крепка не только она, но и весь мир; его нельзя серьезно повредить?
Он почувствовал давно не испытываемое унижение, какое случилось с ним, кажется, не более чем дважды в жизни, в его первых юношеских турнирах, когда противник, доминируя по всей доске, пренебрегал натурой – не брал ни пешек, ни коней - открыто ухмыляясь, предвкушая скорый мат. Оба раза он чудом спасся, сведя на ничью. Но теперь?..
Он знал, что в сегодняшней игре ничьей не будет, и пленных тоже никто не будет брать. Удушливый запах поражения стал слоиться вокруг него. Зачем он здесь? Что теперь? Встать и предложить отвезти домой?
Минутой позже, снова собрав волю, он решил, что сдать партию никогда не поздно. Вопрос в том, остались ли у него какие-либо шансы на ничью. Не быть разложенным на лопатки, уйти с достоинством – неплохой исход при его напрочь разваленной позиции. Зато урок - какой урок!
Собравшись с духом, он поднял голову, посмотрел Инге в лицо. Глаза шведской красавицы, взгляда которых он так долго избегал, с искренним интересом смотрели на него.
- Где вы себя видите через десять лет, Михаил Львович? - сказала она улыбаясь.
«Что ж, вперед, дальняя родственница, бедная сиротка, на «h»!»
- В Париже, - сказал он по наитию и тотчас увидел, что угадал. Инга еще шире улыбнулась. Она так и думала. Он будет в Париже. Она тоже там будет через десять лет. Где еще быть? Она это не просто чувствует, она это знает...
Двинув пешку, Михаил Львович успокоился, стал смотреть Инге в глаза, уже не боясь ее ответного взгляда. Она наклонилась к нему, коснулась его руки и сказала с удивлением и смехом:
- Знаете, Михаил Львович, в вас есть что-то от волшебника...
Ах, как весело шагнула снова пешечка, пехотная скромная дурочка! Пахнуло утренним лугом, свежескошенной травой, легким духом мяты - ах, да, кажется, именно ею был приправлен салат. Ветерок начал трепать бело-голубые плюмажи офицеров, клюющих носом в своих седлах. Офицеры приободрились, подтянули ремни на лошадиных мордах. На крепостных башнях заскрежетали, царапая камень, метлы - началась быстрая уборка. Сонным часовым будто плеснули холодной воды за шиворот длиннополых шинелей. Ухая от неожиданного пробуждения, они сжали покрепче алебарды и принялись покрикивать друг другу, от поста к посту: «Эй, там, на верхотуре, не зевать!» Что-то уже чудилось в воздухе, какое-то возникло возбуждение; неясно откуда, но почуялся далекий гул земли - идет, бредет неведомая сила.
Они вышли из кафе. Было не по-зимнему тепло. Гроссмейстер взял Ингу под руку. Она обрадовано приняла этот жест, даже прижалась к нему плечом. Отворачивая лица от фар встречных автомобилей, они пошли вдоль узких улочек Гринич-Виллиджа, напомнивших ему провинциальный южный город ранней юности. Они заговорили по-дружески, как близкие люди. Михаила Львовича это обрадовало, но была и легкая тревога. Он не хотел одной только дружбы с Ингой. Он хотел ее любви. Любви - и ничего меньше. Меньше - не имело значения.
Расставаясь в машине у подъезда ее дома, Михаил Львович протянул Инге руку. Весь вечер ему хотелось коснуться ее руки, но он так и не решился. Теперь нашелся предлог.
- У вас хорошая рука, - сказал он, с удовольствием прижимая свою ладонь к ее ладони. - Теплая и крепкая.
Он почувствовал, что не в состоянии отпустить руку Инги. Еще мгновение, и время, приличествующее для прощального рукопожатия, истечет. Он уже было принялся высвобождать ее пальцы, как обнаружил, что Инга держит его руку в своих ладонях. Она наклонилась к нему и снова сказала, вглядываясь в его лицо с легким смехом:
- В вас есть что-то магическое. Может быть, вы действительно волшебник?
Не отпуская его, она повлекла гроссмейстера за собой. Мелькнули вверху стручки уличных фонарей. Неподалеку от подъезда, с темной стороны улицы, послышался чей-то смех – беспечный и счастливый. Звякнул ключ в замке парадной двери. Полыхнули с потолка холодно-белые светильники вестибюля. Мерно и натужно жужжа, лифт поднял их на третий этаж и молодецки щелкнул напоследок как бы в удовлетворении своей точной работой.
Тело Михаила Львовича охватило сухим жаром, как будто то был жар сауны. В быстром мелькании света и тьмы он не видел ничего, кроме мерцающего Ингиного лица рядом с его лицом. Впервые он понял, что значит - смотреть во все глаза. Чувствуя его особую взволнованность, Инга шепнула в его ухо, блистая глазами:
- Это и есть то, что называется жизнью. Не правда ли, гроссмейстер?
По воздуху, подошвами туфель едва касаясь синтетического, стриженного бобриком ковра, они вплыли в квартиру. Не снимая шубки, черно-серый с подпалинами мех которой на мгновение почудился Михаилу Львовичу мехом волчицы, Инга опустилась на диванчик, мягко потянув гроссмейстера за собой. Ее глаза совсем переменились. В них не было больше пугающей простых смертных красоты, а была теплая домашняя родная душа. Еще мгновение - и, казалось, она перестанет быть женщиной, самкой, полной нестерпимого очарования, а заговорит без кокетства и отвлекающих маневров о том, что понимает - да, пора прорваться его одинокой упорной далекой пешке на «h». Заговорит теплым любящим голосом, как говорила в детстве мама, поставив перед собой, прижав к своим коленям, разбрасывая своими чудесными пальцами волосы на его лбу для поцелуя. Как от запаха ее духов стучало сердце!..
Тут Михаил Львович понял то, над чем никогда даже не задумывался. Понял, что, сколько себя помнил, двигал деревянные расточные фигурки по лакированным черно-белым полям ради этого мига, этого родного взгляда. С того времени, как умерла мама, ни одна женщина ни разу так на него не смотрела. Он понял столь ясно и просто, что в тайне от него самого целью всей его странной жизни внутри древней, придуманной каким-то гениальным шаманом игры была мелькнувшая в лунном свете рука, которую он, сам того не замечая, стал целовать. Свершилось чудо: не мама, а другая ослепительно прекрасная женщина целовала в ответ его руки, нежно терлась щекой о его щеку и смотрела на него, в него одного.
С не меньшей ясностью он также почувствовал, что впервые теряет способность к анализу. Но его это не встревожило. Он увидел вдруг, что эта женщина - и есть его самый главный приз. Жизнью как она есть, жизнью как способом дыхания он больше не дорожит. Если Инга обнимет его, отдастся ему, его жизнь после этого не будет иметь никакой цели, никакого смысла. Эта молодая женщина была и есть и цель, и смысл, и содержание его жизни.
А между тем Инга уже обнимала его необыкновенно жаркими руками и склоняла в муке свое лицо над ним. Она говорила то, что он так надеялся услышать от нее: «Дорогой мой». Она стала сначала мягко, едва касаясь губами, потом все крепче и крепче целовать его. Пешечка, вздохнул он радостно, доползла скромным червячком до последней клетки, прошла в ферзи. Червячок вспорхнул с земли не бабочкой, а боевым соколом.
Но время истекло. Едва заметно заколебавшись в последний миг, алый флажок расцепился с подпиравшей его стрелкой. Ринулся вниз, к подножию цифры «одиннадцать», к плоскостопным ее ногам, затем качнулся раз-другой, прежде чем неподвижно - навсегда! - повиснуть. В следующий же миг наступила тьма, и остатком угасающего сознания гроссмейстер понял, наконец, кто такая Инга и отчего его так неудержимо влекло к ней. Ну, конечно, как же он сразу не догадался!
- Да, да, как же иначе! - попытался сказать он запекшимися губами. - Как же я сразу не увидел! Это же так просто!
Рука Инги скользнула между тем в створ его рубахи на груди. Едва коснувшись кожи, проникла внутрь. Ее пальцы оказались обжигающе холодными и не по-женски крепкими. Одним движением они сумели сжать сердце и навсегда остановить его биение.
[*] - Вы верите в предзнаменования?
Впервые вышел в журнале Вестник (Балтимор), в переводе на англйский - в журнале The Kenyon Review. Вошел также в мой сборник рассказов The Supervisor of the Sea. В интернете не выставлялся.
3 апреля 2011г.
Флорида
«БЫВАЮТ ДНИ У ЧЕЛОВЕКОВ...»
Моему учителю в Норвичском университете -профессору Леониду Денисовичу Ржевскому
От земли молочными виноградными побегами извивался пар. Вдыхая его теплоту, мы шли с Аликом по университетскому городку. Только что прошел дождь: внезапно по мирному брюху неба бритвенно резанула молния, и на землю обрушилась вода. Налет был по-бандитски коротким, дождь быстро умчался в горы, поспешно цокая по перепуганным красным крышам одиноких домиков. И сразу же с распахнутого неба просвистели раскаленные копья солнца. Неизвестно почему пахло арбузами, розовой переспелой мякотью-слякотью, усеянной черным перламутром косточек. Сладкий розовый запах теснил и перебивал даже медовый дурман недавно скошенной травы. Но уже ощущалось дыхание черного коня, на котором скакал с гор одетый во все черное Вечер. Глаза всадника были печальными, как у Питера Саргуляна.
В это же время в окне стоял студент Питер Саргулян, и его выпуклые с поволокой глаза обиженно окидывали мир.
Он внятно и грустно пожаловался:
- У меня нет сегодня красного вина...
Взгляд укоризненно передвинулся к небу. И через минуту, снова печально, почти безнадежно:
- У меня нет сегодня бэби, нет моего бутилки красного вина...
Мы слышали с кортов глухие удары по мячу, за домами с угрозой прорычал мотоцикл и умчался, растворившись в вязкой засасывающей тишине.
- Питер, - сказал Алик, - я дам тебе белого вина.
- Да-да, ты даешь мне, спасибо большое, - с каждым словом увеличивая дозу сарказма, говорил Питер, - но у тебя тоже нет хороший красное вино, которой как крови...
Мы поняли - он хочет страдать, и не нужно ему перечить. И отошли, а он неподвижно и печально продолжал смотреть на обидевший его мир.
Сегодня был последний день в летней русской школе университета, где двести пятьдесят американцев изучали русский язык. Они приехали в эти прекрасные и равнодушные горы со всех концов своей страны, вместе провели лето, а теперь прощались друг с другом, с русскими учителями, с этим мгновенным летним русским днем.
Розовый апельсин солнца почти скатился за горизонт. А на земле стремительно приближалось время вредных привычек, инстинктов и искушений. Вокруг стали хохотать громче и неестественней. Мы двигались в розово-сером тумане, как по чужой планете. Я ждал: вот сейчас кто-то взмахнет палочкой - и кокон дня превратится в ночную бабочку. Вот оно! Прощальный сиреневый свет залил землю. В нем шла шестнадцатилетняя девушка с сиреневыми глазами, с сиреневыми губами, даже ее розовые пятки казались сиреневыми.
На тонких, сиреневобесшумных шинах выкатилась на асфальтовую дорожку инвалидная коляска. В ней неподвижно сидела девушка с библейским именем Ревека. Глаза, как распахнутые в сад окна, отчаянно и с надеждой смотрели на остатки голубого в небе. Когда-то она возвращалась с шумного и хмельного вечера, машину занесло... Теперь она сидит в этой коляске и лишь иногда, как ребенок, протягивает тонкие руки к Богу, благодарит Его, верит Ему...
- Ревека, - сказал я, - завтра тоже будет небо.
Ее изумительные глаза взлетели под трогательные дужки бровей и улыбнулись:
- «Завтра» - это для надежд, только для надежд. Лишь «сегодня» - это для любви… «Сегодня» - это для Бога.
Она так хорошо говорила по-русски, она была такая красивая, и так празднично поблескивали спицы на колесах...
- Прощай, - ласково, со скошенной улыбкой сказала она, - прощай, и, может быть, до завтра...
Вокруг нас диковинными зеленогорбыми верблюдами свалились в отдыхе горы. На них, как на знакомый предмет своего быта, рассеянно смотрел Костя. Он был завернут в цветастое одеяло и обвешан серьгами, брелоками и цепями. Это, вместе с бородой и вьющимися черными кудрями, делало его похожим на Карибского пирата.
- Бумеранг, - сказал Костя, которого вообще звали Роберт, но здесь все придумывали себе русские имена.
- Бумеранг, - повторил Костя, рассеянно оглядывая горы и вечность, - очень странно, по-русски и по-английски одно и то же слово - бумеранг. Так странно.
- Не только «бумеранг», - заметил Алик, - есть еще слова.
Но Костя не хотел других слов.
- Бумеранг, - отрешенно повторил он, - очень странно, одинаково по-русски и по-английски...
И Костя пошел в сторону лесочка, быстро тающего в серых и густых потоках воздуха. Одеяло согласно волочилось за ним, и теперь издали он уже напоминал не пирата, а древнего пророка, бредущего по пустыне и твердящего слова молитвы.
Мимо нас, как два тянущихся к небу стручка, прошли, таща ящик с книгами, две студентки в шортах.
- Здравствуйте... - сказали они хором и прыснули.
Вслед за ними прошла еще одна девушка, похожая на девочку, с маленькой головой, очень высокая, торжественно, как цапля, ставя ноги далеко перед собой.
В акварельных тенях показался силуэт и постепенно превратился в Шурика. Скрипач Шурик был приглашен сюда неизвестно кем, но не смущался, жил в университете больше месяца и часто вносил некоторую путаницу в стерильно-ясную жизнь американской русской школы.
Сейчас, как и всегда, Шурик был поглощен мысленной дискуссией, посвященной нахождению во вселенском масштабе равновесия между душой и плотью. Его собственные плоть и душа принимали самое активное участие в этом деликатном споре. Приходится констатировать, что эти два мощных начала бытия постоянно вели в нем яростную борьбу за первенство. А почти гуттаперчевое лицо Шурика замечательно отражало различные перипетии этой затяжной, изнурительной войны. В течение лишь нескольких минут оно бывало то печальным и ироничным, как у Гамлета в минуты отчаяния, то становилось скорбным лицом короля Лира, оплакивающего неблагодарность своих детей, а то вдруг освещалось зверским оскалом Отелло, увидевшего роковой платок. А однажды, после лекции о Достоевском, лицо отразило состояние Раскольникова, испуганного видением убиенной старушки.
Если говорить честно, то в этом горниле испытаний, в этом вечном бою, душа Шурика редко выходила победительницей. Как ни прискорбно, но чаще побеждала наглая, ухмыляющаяся плоть.
Сейчас Шурик остановился перед нами, цепко поставив руки на бока и подозрительно нас оглядывая. Уже месяц он не понимал, почему при его появлении на наши лица наползают ехидные гримасы. А причина была простая, как и все в жизни причины для смеха.
После приезда Шурик выразил желание питаться не в главном студенческом кафетерии, а в маленьком, темном и тесном кафе со столами, исцарапанными бессрочными надписями типа «Кэти, я люблю тебя». В этот же день мы сообщили Шурику, что для сотрудников университета в кафе устанавливают ежедневный пароль. Если его знаешь, то с тебя берут полцены. И мы сослались на «своего» человека из администрации, знающего эти пароли. Шурик напряженно ждал, металлические проволочки для выравнивания зубов светились надеждой. И она сбылась. Взяв твердое обещание о неразглашении тайны, подозрительно оглянувшись, мы прошептали: «Сегодня пароль «Белая лошадь». Шурик пошевелил губами для запоминания и сразу же направился к блондинистой что-то напевающей буфетчице. И хотя она была, скорее всего, скандинавских, тихих и медленных кровей, но каждый раз из-за своей пухлости и блондинистости вызывала в памяти крикливых, золотозубых советских буфетчиц привокзальных ресторанов и пивных ларей.
Следуя нашей инструкции, Шурик перегнулся через прилавок и горячо прошептал скандинавке в ухо: «Белая лошадь»! Буфетчица отпрянула, хотела что-то сказать, но вместо этого тихо икнула. Ее эмалированные глаза смотрели на Шурика с первобытным испугом. Потом в них мелькнула догадка, что перед ней душевнобольной, и она согласно и часто закивала. Тогда, уже не скованный конспирацией, Шурик легко произнес: «Суп, молоко, яблоко».
С тех пор он ежедневно узнавал от нас пароль и аккуратно передавал его буфетчице. Та при виде Шурика начинала для приободрения напевать и одновременно прятать ножи. А Шурик подходил с видом бывалого шпиона и жарко шептал: «Корабли покидают гавань», «Кинг-Конг обрывает веревки», «Страус побеждает орла» или еще какую-то нелепую чушь. После этой ахинеи он вносил плату полностью, но нам неоднократно повторял, как ощутима для него разница в цене.
Может, нас заела бы совесть за этот розыгрыш, но в последнее время Шурик стал вести себя заносчиво, туманно бормоча о каких-то секретных заданиях и своих безусловных способностях в области разведки. Поэтому и сегодня Шурик сообщил буфетчице, что «Капуста зацветет в понедельник».
Дальше мы пошли втроем. Время от времени Шурик публично фиксировал богатство природы: «Белочка», «Дерево», «Листок пахнет...» Потом, без всякой видимой связи, вдруг добавлял: «Ну, к примеру, женюсь я на негритянке, что скажут родители?» И надолго замолкал, так как его последние слова приводили к очередным военным действиям между плотью и душой.
А вокруг все занавешивалось прозрачным пепельным светом. Дурманно и мощно пахли цветы. Плывущая жизнь ощутимо обтекала нас. Видимо, от этого военные действия в Шурике прекратились, и он, глядя вмиг затуманенными глазами на плывущий мир, светло произнес:
- Пойдем к «Папе Джону»!
В ресторанчике «Папа Джон» готовили огромные пиццы. Мы любили хозяина, малограмотного испанского романтика. В детстве он мечтал вскочить на Росинанта, а ему купили билет в Америку, и он сделался владельцем пиццерии.
Но иногда слышалось ему с гор призывное ржание дон-кихотовского коня. И тогда он все бросал, жарил курей по старинному кордовскому рецепту и угощал всех знакомых и незнакомых. В такое время он ходил со стаканом рубинового матадорского вина, много плакал и пел одну и ту же печальную испанскую песню. За ним ходила его собака и иногда выла. Я узнал, о чем эта песня. Она о молодом погонщике, который спешил к любимой, загнал своего коня, а попал на ее свадьбу с другим.
Но еще не время было идти к папе Джону, и Алик, заломив руки, как провинциальный актер, укоризненно произнес:
- Нет, Шурик, это не этично, мягко говоря: насыщать свою плоть при голодающей душе. Подождите, пока ваша утомленная душа уснет...
Пристыженный Шурик тихо щелкнул зубами и опустил голову.
Когда мы вновь проходили мимо стоящего в окне Питера Саргуляна, из зеленых холмиков, оплетенных кустами малины, грустно заквакала местная лягушка по прозванью Маня. Лицо Питера Саргуляна напряглось, желтые желваки впитывали боль лягушечьих жалоб.
- Как это, - сказал он, - она кукарекает? О да, квакает. Я немноженько перепутаю это. Я всех лублу! Очшень трудно сказать, я могу по-английски, но я хочу по-русски... Я всех лублу и лублу лагушку.
На аллее появился Ваня-Джон, похожий сразу на всех рыжебородых рыбаков со старинных голландских картин. Как всегда, он был нерешителен, молчалив и слегка заспан. Он остановился, решая, в какую сторону идти. Питер его заметил и сказал:
- Ваня, иди мимо меня, хочешь что-нибудь, вина, кушать, пить, говорить?..
Ваня подошел к окну и продолжал молчать, не выказывая никаких желаний. В очередной раз квакнула Маня.
- Вот, - сказал Питер, - кукует.
- Квакает, - с отвращением поправил его Ваня, лучший студент школы.
- Сколько лет она наквакает мне?
- Они не квакают нашу жизнь, жизнь квакают кукушки, - ответил скрипуче Ваня и стал нерешительно уходить.
Питер смотрел вслед медленно передвигающимся огромным и грязным Ваниным кедам.
Вдруг оказалось, что на траве, теряющей в вечере последние краски, стоит группа русских преподавателей. Некоторые из них были известными писателями, историками, лично знали Бунина, Ремизова, Набокова. А про одного, сухонького, седенького, с глазами-булавочками, рассказывали, будто бы он не так давно говорил за кофе Керенскому: «Ну, Саша, бросьте позировать. Вы не в России, слава Богу, а я не женский батальон смерти...»
Случайно профессора стояли на фоне старинной университетской пушки. Так бы их запечатлеть на фото, именно так, со старинной пушкой, с растворяющейся в вечере травой, с этим сладким днем, приплывшем в их жизнь. И чтоб через много лет кто-то, рассматривая этот снимок, сказал: «Позвольте. Да ведь это же Александр Денисыч. А вот же супруга его, Анна Сергеевна, ну до чего ж симпатичная особа. А рядом-то Николай Владимирович... Милые мои... Ах, Боже ты мой, сколько годочков пронеслось».
Сейчас же они стояли возле пушки, и остатки дневного тепла грели их лица. Среди них были люди той высочайшей культуры, которая прививалась раньше.
Одного из них мы любили особо, за ум, за талант и главное - за уменье смеяться над собой. Сейчас он смотрел в неведомое будущее уже выцветшими, но еще голубыми глазами. Смотрел, спокойно прижмурившись, и видно было, что, как и все мудрецы, будущего он не боится. Серые и розовые тени бесшумными птицами мелькали по воздуху, по жизни, по лицам. Будущее тыкалось в руки мягким теплым ртом, а прошлое осталось за спиной беспрерывным, однозначным жужжанием шмеля.
Чуть хромая и немного волоча раненую ногу, прошел боковой дорогой гость школы - известный всей России писатель. По привычке любил он ходить боковыми дорожками. И надо сказать, хоть хромал, но ходил быстро. Студенты стали мгновенно отделяться от своих компаний и догонять его.
Они уже давно поняли, что он - старый любопытный мальчишка, только ставший из рыжего седым. Несмотря на жизнь в больших городах России и Франции и почти дворянское происхождение, было в нем много от лихого деревенского шофера-гармониста, еще бы восьмиклинку набекрень. Но когда он задумывается, когда подшофе, когда поблескивает сквозь сигаретный дым недобрыми щелками глаз, то случается метаморфоза: из деревенского шофера он превращается в молодого офицера, циничного, пропахшего войной, сорвавшего голос от спирта и команд под артобстрелом, пережившего смерть самых близких, безнадежно воюющего, верящего только в дружбу нескольких оставшихся в живых друзей.
Студенты догоняли его и шли за ним в желтое царство пива, где под пенное потрескивание так хорошо говорить, и уважать друг друга, и просто смотреть на писателя, которого знает вся, ну просто вся Россия.
Уже совсем стемнело, и прямо из темноты вышел с гитарой Фома из Флориды, по-настоящему его звали Том, и улыбка всегда занимала три четверти его веснушчатого лица.
- Ты лубишь, как я пою, - обратился он к нам, - я пою кантри мюзик, как по-русски? Да, народный мюзик.
Он сел на траву и сразу запел, мощно и резко колотя пальцами по струнам. На музыку вышло много народа. Воздух дрожал струнам в ответ. Как гриву коня, перебирал их Фома, и исповеди ковбоев летали вначале между нами, а потом улетали вверх.
Вдруг послышался отчаянно печальный, безнадежный крик.
- Поезд, - стали повторять все, а Фома перестал играть. Каждый день мимо университетского городка в это время проезжал товарный поезд. Пузатые вагоны вперевалочку, неторопливо огибали университет. Но главное, у дизельного «паровоза» был совсем живой, печальный клоунский голос. Подъезжая, он слезно предупреждал о себе, а уж через минуту прощался со всеми своим пронзительным, чудным голосом.
В эти минуты все останавливались, замолкали, смотрели вслед толкающимся вагончикам и до конца дослушивали прощание поезда, пока оно не пропадало совсем. И еще долго после этого стояли в оцепенении, которое и объяснить сами не могли.
А однажды, в очень дождливый и несчастный день, голос этого поезда послышался Питеру Саргуляну голосом умирающего слона, хотя он никогда не слыхал до этого, как кричат умирающие слоны. И в тот тяжелый день Питер вспомнил почему-то свою хриплоголосую армянскую бабушку, так плохо понимавшую по-английски.
Поезд уходил, оставляя за собой тоску. Вдруг он стал что-то кричать сквозь слезы прощания, как будто решился напоследок. Но издали казалось, что это кто-то за рекой дует в губную гармошку. А потом все стихло. И все пребывали в этой тишине, как будто еще чего ожидая.
Идя к «Папе Джону», мы вновь прошли мимо Питера Саргуляна. Он по-прежнему стоял в окне и о чем-то тихо говорил с небом. Переведя глаза на нас, Питер продолжил свой разговор:
- Мне не надо даже красный вино, я хотел бы красный закат, может быть, пинк, что значит «пинк»? Да, розовый закат. Чтобы еще был розовый файер, огонь на небе и в мой сердце... Это так... Это так хорошо.
Его глаза были как две сладкие переспелые сливы, и вдруг с их краешков покатились две слезинки. Питер стер их кулаком, как маленький мальчик, и сказал смущенно:
- Это ничего, будет лучше... Это бывают такие дни у человеков.
1990. Вермонт
Владимир ФРУМКИН,
Вирджиния
ДОНОС
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни – в никуда, а другие – в князья...
Александр Галич
Вирджиния
ДОНОС
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни – в никуда, а другие – в князья...
Александр Галич
В 1968 году я потерял одного за другим нескольких хороших друзей. Развели нас – во всех случаях, кроме одного – августовские события, разгром «пражской весны». «Вот ты возмущаешься нами, а я, представь себе, – чехами. Я за них кровь проливал, Прагу освобождал, а они себе «весну» устроили. Лучшей жизни захотелось? Ничего, пускай живут, как живем мы, их освободители!». Эти слова я, не веря своим ушам, услышал от ленинградского композитора и пианиста Е.В., с которым мы до того момента были едины во всем, что касалось любимой советской власти. «Володя, успокойтесь, – урезонивал меня в те трагические дни Ю.Я.В., известный лектор-музыковед, интеллигент старой закалки, свободно говоривший на европейских языках. – Я был на закрытой лекции, где человек из обкома нам доверительно сообщил, что западные немцы сконцентрировали на чехословацкой границе очень значительные силы. Если бы не мы, они бы вторглись первыми, и Чехословакия стала бы частью НАТО! Понимаете? Мы не могли иначе». «И вы поверили этой байке?» – изумился я. И вспомнил собрания двадцатилетней давности, на которых Ю.Я. громили за безродный космополитизм и пропаганду музыки антинародных композиторов-формалистов Шостаковича и Прокофьева. Держался он стойко, в грудь себя не бил и, казалось, уже тогда прекрасно понимал суть режима. И вот на тебе – он с ним, родимым, заодно, имперский комплекс из подсознания вылез...
После 21 августа мой дружеский круг несколько поредел, но расхождения так и не привели к полному разрыву. Отношения охладились, но кое-как продолжались – не в пример конфликту, который случился чуть ранее и совсем по другому поводу. Впервые в жизни я перестал подавать руку другу. И вряд ли подал бы сейчас, хотя, может, и стоило бы поостыть – ведь четыре десятка лет протекло с тех пор, да и сам я не без грехов (об одном из них – ниже). Но очень уж мерзким был поступок, как на него ни посмотри, хоть этически, хоть практически: Ленинград лишился замечательного музыканта. Сотворивший же эту мерзость приятель получил, напротив, ощутимую пользу – был вознесен на весьма высокий номенклатурный пост.
Эпизод этот всплыл в моей памяти по прочтении великолепного рассказа Иона Дегена «О пользе духовых инструментов», опубликованного в «Заметках по еврейской истории» в марте 2009 года. Под одним из откликов на рассказ увидел подпись: Игорь Блажков. И тут же вспомнил высокую статную фигуру молодого дирижера, ассистента Мравинского, яркого, многообещающего музыканта, талантливого и вдумчивого интерпретатора старинной и современной музыки.
…Апрель 1968 года. В Доме ленинградских композиторов на Герцена 45 (теперь это, как и встарь, Малая Морская) встречаю моего учителя Михаила Семеновича Друскина.
– Слышали, что учинил по радио наш Толя Коннов?
– Нет, а что?
– Хулиганский наскок на Игоря Блажкова. Форменный донос – под видом радиорецензии...
До сих пор жалею, что не был на этом концерте: так я больше и не увидел за дирижерским пультом Игоря Ивановича Блажкова перед его изгнанием из Ленинграда и вынужденным возвращением в Киев. Когда опала – усилиями Мравинского – была снята и Игорь (в 1977 году) вновь начал выступать в Северной столице, я уже был за океаном. Но возмутившую Друскина «рецензию» послушать удалось той же весной 1968-го: кто-то из моих знакомых ухитрился достать запись.
Толя, построивший передачу как репортаж из концертного зала, начал с критики программы: эта музыка, дорогие радиослушатели, – не для нас с вами, любителей реалистического искусства. Тут явный расчет на особую публику, на снобов, на музыкальных стиляг, падких на модненькое и остренькое. Впрочем, концерты этого дирижера всегда вызывают нездоровый ажиотаж...
О том, что исполнялось в тот вечер в зале имени Глинки, мне напомнил Игорь Блажков, ныне проживающий в германском городе Потсдаме:
«Концерт Ленинградского камерного оркестра под моим управлением в Малом зале Филармонии состоялся 1 апреля 1968 г.
Программа:
1 отделение:
Перселл – сюита «Гордиев узел разрублен»,
Шютц – 3 священных симфонии – "Venite ad me", "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr", "Wie ein Rubin";
2 отделение:
Сильвестров – Симфония № 2 для флейты, ударных, ф-но и струнных (1-е исполнение),
Шёнберг – Серенада, соч. 24 (1-е исполнение в СССР)».
Игорь Блажков
Думаю, что у прежнего Толи Коннова, пытливого и смышленого паренька из Самары, ученика выдающегося музыковеда (моего неофициального ментора) Александра Наумовича Должанского, хватило бы ума и профессионализма оценить оригинальность и смелость программы: сопоставлены век XVII и век XX, великие мастера эпохи барокко – Генрих Шютц и Генри Пёрселл – соседствуют и перекликаются с представителями двух поколений новаторов – отцом музыкального авангарда Арнольдом Шёнбергом и молодым украинским композитором Валентином Сильвестровым. Но первого апреля 1968 года в концертный зал на Невском явился новый Толя Коннов – счастливый обладатель ленинградской прописки и штатной должности на Ленинградском радио. Скромному провинциальному мальчику был поручен важный участок идеологического фронта. Доверие следовало оправдать, успех – закрепить и развить. И тут Толеньке повезло вторично: Министерство культуры СССР вплотную заинтересовалось репертуарной политикой Ленинградской филармонии. Интерес был не случайным и отнюдь не академическим. К первому заместителю Фурцевой, музыковеду и чиновнику Кухарскому поступил донос, который, согласно цитированному письму Игоря Блажкова, прислал «ныне процветающий композитор и профессор СПБ консерватории. Доноситель из ревности и зависти написал, что я исполняю в концертах Ленфилармонии "сомнительные" сочинения. Кухарский прислал комиссию по проверке репертуара филармонии за последние 5 лет. Комиссия просматривала программы филармонии, выписывала "сомнительные" сочинения и исполнителей; почти всюду стояла фамилия – Блажков».
В то время как министерская комиссия занималась скучной канцелярской работой, Толя Коннов, вооружившись портативным магнитофоном, отправился прямехонько в концертный зал, где пропагандиста сомнительного репертуара можно было поймать с поличным. Репортаж отдавал то иронией, то сарказмом, а когда дело дошло до демонстрации фрагмента из камерной симфонии Сильвестрова, Толя смодулировал в наигранную шутливость: «ах, ошибся я, простите – совершенно случайно пустил музыку наоборот, с конца к началу. Сейчас сыграю, как написано... Ну как? Не правда ли – никакой разницы! Хоть вперед крути, хоть назад – бессмыслица какая-то, случайный набор звуков».
«Репортаж Коннова я не слышал, но мне о нём рассказали. В нём Коннов пустил с конца к началу фрагмент симфонии Сильвестрова. Я написал протест Лен. комитету по радиовещанию, который остался безответным...», – вспоминает Блажков в том же письме. Свой протест я выразил лично автору передачи, встретив его в коридоре возле музыкальной редакции Ленинградского радио. Толя расплылся в приветственной улыбке и протянул руку.
– Извини, но отныне я тебе руки не подаю.
– Это почему же?
– После того безобразия, которое ты устроил по радио, считай, что мы с тобой не знакомы.
– Но я высказал свое личное мнение! Только и всего! У каждого может быть своя точка зрения! Если ты не согласен, выступи по радио и скажи.
– Ты что, серьезно?! Или у тебя шутки такие дурацкие? Кто меня подпустит к микрофону, кто позволит хоть слово вякнуть против твоей партийной точки зрения?
Партия в долгу не осталась. Толя немедленно получил свои тридцать сребреников. Получил в два приема. Вначале – премию Ленинградского комитета по радиовещанию за лучшую передачу месяца: Коннов, оказывается, создал яркий образец боевой журналистики, блестящий пример того, как нужно разоблачать идейно чуждые явления в культуре. Затем отличившийся журналист был назначен на ответственный пост инструктора в отделе культуры Ленинградского обкома КПСС. В этом новом качестве Толя пожаловал в Дом композиторов на открытие выставки талантливого скульптора и художника-нонконформиста Гавриила Гликмана, ваявшего и рисовавшего известных композиторов прошлого и настоящего. Мы с ним дружили, незадолго до моего отъезда из СССР он написал большую картину, названную «Песни Галича». На ней в мрачной экспрессионистской манере был изображен я с гитарой: по словам Гавриила Давыдовича, именно от меня он впервые услышал композиции замечательного поэта-певца...
Я едва узнал Коннова, когда он появился в проеме дверей старинного особняка, построенного Монферраном неподалеку от возводимого им Исаакиевского собора. Новоиспеченный сотрудник обкома был облачен в отличный темный костюм, яркий галстук и ослепительно белую рубашку. Гигантский контраст с более чем скромными пиджачками и брючками, в которых он проходил всю свою предыдущую жизнь. Поднявшись по невысокой мраморной лестнице, Толя осторожно покосился на меня, ожидая моей реакции. Я отвернулся. Примирение не состоялось. Выставка Гликмана, кстати, закрылась, едва начавшись. И притом с большим скандалом: кто-то признал в картине «Комиссар» полузабытые черты Льва Давидовича Троцкого... Уж не представитель ли обкома проявил партийную зоркость и распорядился очистить Дом советских композиторов от работ, чуть ли не каждая из которых вызывала подозрительные ассоциации, работ, проникнутых тревогой, трагизмом и духом творческой свободы?
У меня была личная причина не любить обкомовских контролеров культуры. Сравнительно недавний предшественник Коннова в начале 1963 года явился инкогнито на мою лекцию в одном из модных в то время «университетов культуры». К тому времени он уже был отстранен от должности за чрезмерное усердие, проявленное в последние годы сталинщины. Как видно, наломал слишком много дров. Но как только новый Хозяин начал (в конце 1962-го) учить уму-разуму деятелей искусства, слегка расслабившихся в атмосфере им же устроенной оттепели, проштрафившийся инструктор повеселел, встрепенулся и стал рыскать по городу в поисках крамолы. И нашел ее на лекции-концерте о русской музыке во Дворце культуры имени Кирова на Васильевском острове. Молодой лектор-музыковед, член Союза композиторов СССР, среди бела дня совершил идеологическую диверсию: зачитал со сцены неопубликованное стихотворение, осуждающее политику партии в области искусства.
Я только что вернулся из Москвы с совещания музыкальных лекторов, где моя московская коллега вручила мне рукописный листок со стихами Евтушенко, написанными после премьеры (в декабре 1962 года) оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (в новой редакции – «Катерина Измайлова»), запрещенной после знаменитой погромной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки».
...И тридцать лет почти пылились ноты,
И музыка средь мертвой полутьмы,
Распятая на них, металась ночью,
Желая быть услышанной людьми...
Лекция моя была о русской музыке XIX века, до Шостаковича надо было ждать еще месяца два, но мне не терпелось поделиться новинкой. Выход был найден: я рассказал о московском совещании лекторов и о том, что там мне удалось познакомиться с новым стихотворением Евтушенко о возрожденной опере Шостаковича. И выразил уверенность, что оно вскоре будет опубликовано...
Через несколько дней Правление Ленинградского союза композиторов решает лишить меня на шесть месяцев права чтения публичных лекций. Мера пресечения была ответом на два «сигнала»: гневный звонок из обкома и заметку в «Вечернем Ленинграде» – о том, что музыковед Фрумкин в своей профессиональной деятельности игнорирует новейшие усилия партии и правительства на культурном фронте. О факте публичного чтения Самиздата газета предпочла умолчать. Правление предложило мне написать в стенгазету Дома композиторов (а как же без стенгазеты в советском учреждении!) покаянное письмо и обещало в обмен на него снять запрет на чтение лекций. Я выжал из себя несколько строк: надо быть требовательнее к себе и не использовать в лекциях – в погоне за сенсацией – материалы, к теме лекции не относящиеся. За это мое туманное покаяние мне досталось от Сережи Слонимского. Зря ты на это пошел, сказал он. Никаких уступок этой власти, никаких компромиссов! Мой друг был прав. Я проявил слабость – и это одно из пятен, лежащих на моей совести...
Но вернемся к событиям 1968 года. Они разворачивались быстро и неумолимо. 21 июня состоялось заседание Коллегии Министерства культуры СССР по вопросу репертуарной политики Ленинградской филармонии. 1 июля Игорь Блажков был уволен. Вот что он рассказал через много лет газете «Коммерсантъ» (№ 92, 30.05.2001):
«Было предложение лишить меня права выступать на концертной эстраде, но ограничились рекомендацией меня уволить. Материалы коллегии разослали во все концертные организации СССР – это означало волчий билет. Нашелся только один человек – директор Укрконцерта Кулаков: он меня буквально "внедрил" в Киевский камерный оркестр и прятал от нашего министерства».
Интервью в «Коммерсанте» открывается преамбулой, проливающей свет на то, как сложилась дальнейшая судьба Игоря Ивановича Блажкова:
«Главным событием фестиваля "Петербургская музыкальная весна" стало возвращение на петербургскую сцену легендарного дирижера Игоря Блажкова. Апостол новой музыки в Ленинграде 1960-х, он играл Шенберга, Вареза, Денисова и прочих "формалистов и декадентов", переписывался со Стравинским и Юдиной и возродил к жизни Вторую и Третью симфонии Шостаковича. Не меньше Блажков прославился исполнением музыки старинной».
Другая жертва радиодоноса Коннова, Валентин Сильвестров, был исключен из Союза композиторов Украины в 1970 году. Выжил, не сломался, продолжал (и продолжает) работать. Заглянем в Википедию:
Валентин Сильвестров
Сильвестрову принадлежат семь симфоний, два струнных квартета, вокальные и хоровые сочинения. Он работал в кино (среди прочего, им написана музыка к фильмам К. Муратовой «Чеховские мотивы», 2002; «Настройщик», 2004)... Тесно и сложно связанное с музыкальной традицией, особенно – немецким романтизмом (Р. Шуман), со звучащим поэтическим словом, творчество С. – один из наиболее глубоких образцов современного, пост-авангардного мелодического языка... О композиторе снят документальный фильм Анатолия Сырых «Валентин Сильвестров. Тихие песни» (1992). (А также кинофильмы: Лили Оливье «Незаконные дети Веберна», Франция, 1994, и Дориана Супина «Диалоги. Композитор Валентин Сильвестров», Эстония, 2008. – В.Ф.). Он удостоен Международной премии С. Кусевицкого (США, 1967), премии Международного конкурса композиторов «Gaudeamus» (Нидерланды, 1970), Государственной премии им. Т. Шевченко (Украина, 1995), ордена «За заслуги» (1997), ордена «За интеллектуальную отвагу» журнала «Ї» (2004).
Мои попытки найти в Интернете послужной список Анатолия Коннова увенчались более чем скромным результатом. Его перу, как оказалось, принадлежит один единственный опус, к тому же написанный в соавторстве:
Коннов А.П. Государственный Ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова / [А.П. Коннов, И.В. Ступников]. – Л.: Музыка, 1976. - 158 с.
Указ Президента Российской Федерации
от 25 сентября 2000 г. N 1694
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги в области искусства присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОННОВУ Анатолию Петровичу – музыковеду, город Санкт-Петербург
Президент Российской Федерации
В. Путин
За какие же такие заслуги выпала тебе столь высокая честь, милостивейший Анатолий Петрович? Неужто за 186-страничную книжку о Мариинском театре, созданную тобой на пару с И.В. Ступниковым? Или за что-то другое, к музыковедению прямого касательства не имеющее? Может, объяснишь при случае? Если не мне (отношений между нами нет и не будет), то хоть кому-нибудь, но непременно – публично.
«Что ты знаешь о Коннове, где он и что он?» – спросил я у моей бывшей ученицы, профессора Санкт-Петербургской консерватории, автора музыковедческих трудов, получивших международное признание. Вот ее ответ:
«А. Коннова вижу на концертах. Благообразный седой господин. О его и его младшего брата грязной роли в травле М.С. (Михаила Семеновича Друскина. – В.Ф.) и о чудовищном обсуждении в 1975 году книги М.С. о Стравинском я написала в очень большом материале, который включает в себя стенограмму этого обсуждения... А. Коннов – одна из самых темных личностей. Андрей Петров очень помогал Мих. Сем. избегнуть гонений Коннова».
Игорь Иванович Блажков (род. 23 сентября 1936, Киев) — украинский дирижёр.
Окончил дирижёрский факультет Киевской консерватории (1959, класс Александра Климова), работал в Государственном симфоническом оркестре Украины. Переписывался с выдающимися музыкантами Запада — в том числе с Карлхайнцем Штокхаузеном и Игорем Стравинским, участвовал в подготовке гастролей Стравинского в СССР (1962). Затем учился в аспирантуре Ленинградской консерватории у Евгения Мравинского, в 1963—1968 гг. работал под его руководством в Симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. После почти 30-летнего перерыва исполнил Вторую и Третью симфонии Дмитрия Шостаковича. Был уволен решением Коллегии Министерства культуры СССР за исполнение авангардной музыки (Луиджи Ноно, Арнольд Шёнберг, Антон Веберн, Эдгар Варез, Чарльз Айвз и др.).
В 1969—1976 гг. возглавлял Киевский камерный оркестр, с которым исполнил множество редких и забытых сочинений — в том числе по архивным материалам из собрания Берлинской Певческой академии, вывезенного из Германии после Второй мировой войны и хранившегося в Киеве. Продолжал исполнять и произведения новейших композиторов (в частности, Валентина Сильвестрова и Андрея Волконского). С 1983 г. руководил камерным оркестром «Перпетуум мобиле» Союза композиторов Украины. В 1988—1994 гг. художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Украины. Затем был уволен и остался без работы, в результате чего в 2002 г. эмигрировал в Германию. Живёт в Потсдаме.
По словам одного из критиков, он «известен как дирижёр, которому современные композиторы доверяли ноты с ещё не высохшими чернилами, как музыкант-просветитель, неутомимый исследователь и реставратор забытых шедевров мировой музыкальной литературы». Другой обозреватель называет Блажкова «одним из главных украинских музыкантов ХХ века». В общей сложности, как утверждается, впервые исполнил около 400 произведений.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ,
Москва
Владимир КОВНЕР,
Детройт
НЕГОДЯЙ БЭД, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
На конференции Ассоциации американских переводчиков с докладом о переводах лимериков с английского на русский и с русского на английский выступил Владимир Ковнер с содокладчицей - американской переводчицей Лидией Разран Стоун.
Только что в Бостонском издательстве M·Graphics Publishing (www.mgraphics-publishing.com) вышла книга русских переводов Владимира Ковнера "Приласкайте льва. Американские и английские стихи для детей" с великолепными рисунками Феликса Браславского. Там "Матушка Гусыня", Роберт Стивенсон, Огден Нэш, Джон Чьярди и Элеонора Фарджон. И наши современники - Джек Прилацкий и Брус Ланский.
И, конечно, Эдвард Лир.
Сейчас Владимир Ковнер готовит к печати "Книгу абсурда" Эдварда Лира – более 250 лимериков. Это будет самое полное собрание лимериков Лира на русском языке.
Москва
Владимир КОВНЕР,
Детройт
НЕГОДЯЙ БЭД, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
На конференции Ассоциации американских переводчиков с докладом о переводах лимериков с английского на русский и с русского на английский выступил Владимир Ковнер с содокладчицей - американской переводчицей Лидией Разран Стоун.
Только что в Бостонском издательстве M·Graphics Publishing (www.mgraphics-publishing.com) вышла книга русских переводов Владимира Ковнера "Приласкайте льва. Американские и английские стихи для детей" с великолепными рисунками Феликса Браславского. Там "Матушка Гусыня", Роберт Стивенсон, Огден Нэш, Джон Чьярди и Элеонора Фарджон. И наши современники - Джек Прилацкий и Брус Ланский.
И, конечно, Эдвард Лир.
Сейчас Владимир Ковнер готовит к печати "Книгу абсурда" Эдварда Лира – более 250 лимериков. Это будет самое полное собрание лимериков Лира на русском языке.
Мы давние друзья, и потому наша беседа началась с личных воспоминаний.
- Представь, Володя, начало семидесятых годов, мой Петропавловск Северо-Казахстанской области, редакцию областной партийной газеты "Ленинское знамя". Я приехал из командировки и пишу материал в номер. О том, что комиссия одного совхоза проверяла в соседнем совхозе, как там отремонтировали технику к весеннему севу. А потом комиссия из этого совхоза приедет в тот совхоз...
- Соседям ремонт техники у соседей нужней, чем хозяевам, так это выглядело? Помню: мы, студенты, каждый год отправляемые "на картошку", принимали на ферме роды у коровы. Где в это время были и чем занимались хозяева, неизвестно.
- Все это идеально укладывалось в общую атмосферу советского абсурда. На страницах газет ученые(!) рекомендовали, как лучше и чем запаривать солому, чтобы коровы ее, солому(!), могли есть. Значит, коровам есть нечего; а рядом - репортажи о перевыполнении планов, и на каждой странице - решающий год пятилетки, определяющий год пятилетки...
- Я жил в Ленинграде, но атмосфера была та же. В народе уже новый календарь недели составили: понедельник - начинальник, вторник - определяльник, среда - решальник...
- В нашей редакции работал выпускник вашего Ленинградского университета Боря Тимохин. Переводил непереведенные в СССР рассказы официально признанных у нас англо-американских писателей и печатал их в нашей провинциальной партийной газете.
- Замечательно!
- В тот вечер, когда я строчил в номер репортаж о взаимопроверке, а народ вокруг уже употреблял вечерний портвейн, Боря Тимохин принес в нашу компанию маленькую зеленую книжку на английском. Лимерики Эдварда Лира. Читал их на английском, потом в своем переводе, а затем уже кем-то переведенные на русский:
Негодяй по фамилии Бэд
В старых дев разряжал пистолет.
Горожане узнали - пулемет ему дали.
Старых дев больше в городе нет.
Это было ошеломительно. Эдвард Лир пришел в редакцию областной партийной газеты "Ленинское знамя" как наш друг и товарищ по миру абсурда, смеющийся над ним. Мы-то смеялись не часто, мы жили в нем и свыклись с ним.
- У меня есть маленький секрет про этот лимерик, но я оставлю его на потом. А пока вернемся к Лиру, который пришел к вам через 100 лет после смерти. Английский поэт, художник и композитор XIX века Эдвард Лир(1812 - 1888) был одним из основоположников так называемой поэзии нонсенса, абсурда. С его именем прежде всего связывают лимерики - пятистишия, которые Оксфордский словарь 1898 года определил как "непристойную поэтическую бессмыслицу". В лучшем случае лимерики до Лира были, мягко говоря, нескромными. Но Лир совершенно изменил их направление. Сам он писал: ''Чтобы не было возможности ошибочно истолковывать то, что я сочиняю, повторяю: ''Абсурд, чистый и абсолютный, - моя единственная цель, всегда!'' После выхода первой "Книги Абсурда" в 1846 году Англию, а вскоре и Америку охватила Лиромания. Только до конца его жизни вышло 25 изданий.
- По тем временам - что-то непредставимое. В чем секрет?
- Свои "бессмыслицы" Лир писал для детей...
- Как впоследствии Льюис Кэролл "Алису в стране чудес"...
- То было викторианское время. Дети росли в атмосфере строжайших правил. И вдруг Лир своими стишками открыл для них совершенно другой, безумно смешной мир, где ужасно строгие взрослые превращаются в толстых капризных шарообразных стариков или, наоборот, становятся такими тонкими, что их незаметно запекают в пирог; эти строгие взрослые падают в горячий бульон и летают на мухах, носят парики в рост человека, имеют носы до пола и, вообще, постоянно оказываются в дурацких ситуациях. Я бы назвал абсурд Лира ОСВОБОЖДАЮЩИМ. Именно поэтому неожиданно для самого Лира его лимерики подхватили взрослые.
- Вчерашние дети, выросшие в жестких правилах...
- Вот именно. Вполне респектабельный английский критик Джеки Вуллшлейгер писала: "Тот, кто мечтает удрать из однообразной серой реальности, будет чувствовать себя как дома в абсурдном мире Лира". Англичане уходили от рутины, от напряжения, от бесцветной жизни в мир абсурда лимериков, чтобы снять это напряжение, расслабиться.
- Володя, ты мне все объяснил! Теперь я понимаю, почему Эдвард Лир занимает, на мой взгляд, особое место в русском сознании. Ведь советский человек жил в таких рамках, по сравнению с которыми викторианские правила - разгул свободы. И в то же время - в мире официального, утверждаемого пропагандой абсурда. Нашими лимериками ОСВОБОЖДЕНИЯ сознания были частушки-нескладушки. Советская народная частушка все больше тяготела к пародии, высмеивала официальные и свои же, народные, массовые идеологемы:
С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Ничего, что все пропало -
Лишь бы не было войны.
А в семидесятые годы пришел черный юмор:
Я спросил электрика Петрова:
"Отчего у вас на шее провод?"
Ничего Петров не отвечает -
Лишь висит и ботами качает.
И еще двустишие, может быть, самое знаменитое из той серии:
Мальчик в деревне нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
- Это двустишие примечательно еще и другим - на его основе у нас в Америке возник классический по форме лимерик:
Мальчик в деревне нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
Город тоже сражен
Пулеметным огнем...
Где ж он, падла, патроны берет?
(Andy aka Colorado)
- То есть произошло формальное и неформальное соединение английской поэзии абсурда с русской. На основе русского фольклора и английского лимерика.
- Кстати о слиянии, открою тебе мой секрет: лимерика, который ты прислал мне, про негодяя Бэда, - у Эдварда Лира нет.
- Как так?
- Дело не в том, что во времена Лира и Пушкина пулемет еще не изобрели - тут можно сослаться на вольное изложение. Вообще никакого Бэда у Лира нет! Я нашел похожий лимерик неизвестного автора:
There was a young fellow named Sistall,
Who shot three old maids with a pistol.
When 'twas known what he'd done,
He was given a gun
By the unmarried curates of Bristol.
Автор, повторю, неизвестен. Дословный перевод:
Жил-был парень по имени Систол,
Который застрелил трех старых дев из пистолета.
Когда стало известно, что он сделал,
Ему дали пушку
Холостые кураторы Бристоля.
Возможно, под "кураторами" неизвестный автор имел в виду попечителей старинного Бристольского университета. Видимо, переводчица Ольга Астафьева сделала вольное переложение народного лимерика, а уже молва приписала его Эдварду Лиру.
- Кому ж еще! И этот случай как нельзя лучше укладывается в легенду о жизни и стихах Эдварда Лира.
- Совершенно верно.
- А теперь, Володя, позволь представить читателям лимерики из "Книги Абсурда" в твоих переводах.
Эдвард ЛИР
ИЗ "КНИГИ АБСУРДА"
Перевод Владимира Ковнера
ИЗ "КНИГИ АБСУРДА"
Перевод Владимира Ковнера
Дед на флейте играл кое-как.
Заползла ему кобра в башмак;
Он играл день и ночь,
Уползла она прочь,
Больше слушать невмочь – ну, никак!
Одной девушке в городе Ницца
Сели прямо на шляпу три птицы.
Ну, а ей хоть бы что:
''Пусть садятся хоть сто,
Хватит места всем птицам из Ниццы''.
Была дама одна из Прованса
Пребольшим знатоком реверанса;
Но она так крутилась,
Что в землю ввинтилась,
Тем расстроив всех дам из Прованса.
Жил старик со своею старухой,
Был он славен присутствием духа;
Он купил скакуна
И умчал, вот те на!
Бросив всех и родную старуху.
На горе умный дед из Кромера
Всё читал, поджав ногу, Гомера;
Затекли его ноги,
Чтоб размяться, о Боги!
Прыгнул в пропасть любитель Гомера.
Романтический старец из Трои
Тёплый бренди пил, смешанный с соей;
Пил он маленькой ложкой
В свете лунной дорожки
Под старинными стенами Трои.
Ночью милая квакерша Айки
Вышла замуж за деда с Ямайки;
Утром – вопли: ''О, Боже!
Муж-то мой – чернокожий!''.
Огорчен ловелас из Ямайки.
Худосочный старик из Берлина
Был тонюсенький, как паутина;
Он прилёг не на место,
И замешен был в тесто
Испечён – без корицы и тмина.
Один старец хотел научить
Разных рыбок по суше ходить;
Рыбки все до одной
Отошли в мир иной,
И умчался старик во всю прыть.
Жил старик в королевстве Непал,
Он с коня неудачно упал;
На две части распался,
Но клей отыскался –
Чинят всех в королевстве Непал.
Старичок жил на барже когда-то,
Его нос был большой, как лопата;
Для рыбалки в ночи
Ставил он две свечи
Прямо на нос, большой, как лопата.
Старикан из посёлка Сумы
Чуть не умер зимой от чумы;
Он лишь маслом питался
И, как грузчик, ругался,
И избавился так от чумы.
- Володя, последний лимерик, написанный 150 лет назад, вроде бы имеет сегодня научное продолжение. Слышал, журнал Time писал, будто люди, часто употребляющие ненормативную лексику, проще говоря - мат, живут дольше. Мол, бранные слова, произнесенные даже мысленно, являются своеобразным способом нервной разрядки. У ругающихся испытуемых в крови отмечены низкие уровни гормона стресса - кортизола, и высокие показатели гормонов радости - эндорфинов.
- Были такие материалы. В номере от 16 июля 2009 года - статья об экспериментах английского психолога профессора Ричарда Стивенса. Стивенс, в свою очередь, ссылается на профессора Пинкера из Гарварда. Они утверждают, что, в частности, сквернословие повышает болевой порог. Объясняют это тем, что у наших предков, живших в боях и походах, привычка к крепким выражениям способствовала увеличению агрессии и снижению чувствительности к боли.
- Если так, если это не розыгрыш, то можно сказать, что Эдвард Лир не только живее всех живых, но и впереди науки всей.
Москва – Детройт.
Рисунки Эдварда Лира.
Эмиль Дрейцер,
Нью-Йорк
ЦУГЦВАНГ
Рассказ
Нью-Йорк
ЦУГЦВАНГ
Рассказ
Так называют положение в шахматах, когда надо ходить, но, что бы ни сделал, все ведет к проигрышу…
Так уж случается, что королева, всесильная и блистательная, при одном появлении которой падают в обморок пажи и, бледнея от любовного волнения, стреляются молоденькие офицеры стражи, в силу позиции, исключительно позиции – стесненности тупоголовых пешек, неповоротливости ладьи, нерешительности слонов - начинает вдруг, сама того от себя не ожидая, благосклонно поглядывать на щупленького старичка в тяжеленной короне, робко взирающего на нее с соседнего поля. И король, который всю жизнь привык ходить осмотрительно, как подобает королю, шаг за шагом, поскольку попасть в ловушку и пропасть - дело плевое в наше лишенное сентиментальности время, увидев лицо королевы анфас, теряется.
Был вечер приезжих русских поэтов. Их было двое. Один из них, взрослый мальчик с большой головой, в клетчатой застиранной рубашке, аккуратно застегнутой на все пуговки, походил скорее на сельского счетовода, чем на поэта. Высокорослая, с короткой стрижкой поэтесса читала стихи легким баском. Она сидела в лагере и продолжала в стихах, как и до него, резать правду-матку. Когда ее представили публике, поэтесса сказала с немалым пафосом, что поклонилась Богу за то, что сподобилась побывать в Америке. Аудитория содрогнулась. Счетовод, в свою очередь, стесняясь, пробормотал, что если бы ему еще полгода назад сказали: он будет читать стихи в Нью-Йорке, он подумал бы, что над ним неостроумно подшучивают.
В перерыве Михаил Львович увидел знакомую профессоршу. Она его обняла: «Ах-голубчик-рада-вас-видеть!» Сначала он удивился такому радушию - они были вовсе не близки. Потом вспомнил, что профессорша недавно потеряла мужа. Должно быть, погибает от одиночества, рада любому знакомому лицу. Она была по-русски сентиментальна, во время своих семинаров, когда речь заходила о судьбах русских поэтов, не стесняясь аспирантов, переходила в слезы и чем-то (впрочем, почему «чем-то»? Ясно чем! И обликом, и голосом) напоминала одну из великих отечественных поэтесс.
Рядом с ней и стояла Инга, ее любимая аспирантка. Ей было не больше тридцати, и Михаил Львович сразу сбросил ее со счетов как слишком молодую. Позже понял: не столько как слишком молодую, сколько как слишком красивую. Она была задумчива и даже стеснительна, и потому ее красота не бросалась в глаза. Инга стояла рядом и слушала, пока он и профессорша обменивались любезностями. Профессорша не догадалась представить их друг другу, и когда она, слегка тряся головой в старческом тике, отвернулась на минуту, увидев в толпе очередное знакомое лицо, Михаил Львович сам представился и удивился, что Инга с живостью и удовольствием протянула руку.
Она смотрела на него прямо, без какого-либо кокетства, которое волей-неволей возникает на женском лице при разговоре со знаменитостью, хотя он был таковой только в узком шахматном кругу. Был гроссмейстером, международным даже гроссмейстером, но слава его была далеко позади, лет за тридцать до этого дня. Теперь уже не было никакой особенной славы, а была устойчивая репутация вдумчивого игрока. Не проходило турнира, чтобы он не получал приза за красоту. Это необязательно означало победу. Он был уже далеко не в лучшей форме; ему уже трудно было тягаться с мускулистыми парнями нового гроссмейстерского поколения. Готовясь к турнирам и матчам, они каждое утро бегали рысцой, проплывали километры в бассейнах. К концу многочасовой партии Михаил Львович, увы, уже не выдерживал напряжения, срывался. Но его игра все еще захватывала любителей своим изяществом. Он участвовал в турнирах все реже, был скорее тренером и шахматным комментатором, чем игроком. Его анализы партий печатали в Америке и нескольких европейских странах. Вот, пожалуй, и все. Прямо скажем, не очень уж серьезное оружие на ристалище, где борются за женские сердца...
Михаил Львович опешил от Ингиного взгляда. Медленно развернув голову, она смотрела на него в упор темно-серыми широко расставленными глазами. К тому же она была блондинкой, той русой блондинкой, в которой трудно заподозрить подкрашивание. Впрочем, она была шведкой, и ее русость была естественной.
У гроссмейстера изредка случались романы. Сам он никогда их не искал. Если женщина сама делала первый шаг, он порой уступал. Романы были легкими, продолжались недолго. Вся жизнь Михаила Львовича была втиснута в шестьдесят четыре черно-белых квадрата, и заботы о шестьдесят пятом, на котором правила главной игры вдруг оказывались непригодными, были ему не под силу. Гроссмейстер каждый раз терялся, если женщина сердилась на него из-за того, что он хоть и позвонил, как обещал, сразу после партии, но забыл разъяснить то, что это может случиться следующим вечером, а может и днем позже, если партию отложат и будет доигрывание.
Шахматам он был обязан многим. Выдержкой. Стойкостью. Умением собрать волю в нужный момент. Наконец, оптимизмом. Пока на доске остаются хоть маломальские силы, всегда есть надежда. Сколько раз бывало: несмотря на страшные потери, держишься до конца, а там, глядишь, везет. Противник, чувствуя легкую поживу, расслабляется, начинает ошибаться... Давно стало привычкой и жизнь рассчитывать на несколько ходов вперед. Вот и сейчас он раздумывал, позвонить ли Инге. Что из этого может выйти? Какие тут могут быть варианты?.. Спокойно продумать этот, в сущности, обычный житейский ход мешало волнение. Это было нехорошим признаком. Он был убежден: как за доской, так и в жизни стоит упустить контроль над эмоциями, и тебе несдобровать. Когда внутри сумятица, редко удается выкарабкаться невредимым, не говоря уже о том, чтобы выиграть.
Он, по сути, ничего не знал об Инге. Знал только, что она божественно красива. «Почему красота ассоциируется с Богом? - впервые задумался он. - Почему так притягивает? Почему при встрече с ней замирает дыхание, то есть на мгновение останавливается жизнь? Как нечто по сравнению с красотой второстепенное? Может быть, тяготение к ней есть не что другое, как стремление к совершенству, абсолюту, вечности и, стало быть, к смерти? Поди разберись...»
Он, кончено, желал Ингу. Однако чем больше он думал о ней, тем меньше сама по себе интимная близость с ней значила для него. Гроссмейстер порой удивлялся, почему, когда встречаешь женщину необыкновенной красоты, физическое желание отодвигается, не ощущается столь ясно. Конечно, оно есть и, конечно, дает о себе знать, но не прямо, а исподволь, словно полуденное солнце в густом тумане.
Впрочем, чему удивляться!.. Не красота ли, в конце концов, была тем, что больше всего притягивало его к шахматам? Атака, которую посчастливилось провести по стройному, тщательно продуманному плану. Изящная и быстрая, в несколько коротких ударов шпагой, комбинация - и вот уже противник глотнул в изумлении воздух, будто под ним вдруг подломился мраморный пол, по которому он до сих пор беспечно прогуливался.
Гроссмейстер знал, что стремление к красоте игры во что бы то ни стало, часто вопреки логике позиции, - причина того, что он так и не стал чемпионом мира, как в свое время прочили ему многие, теперь забывшие о нем болельщики на его родине.
Он был опытным бойцом, но если соперник играл бездарно или, еще того хуже, «зевал», то, вместо радости от промаха врага, втайне досадовал. Хотелось не просто выиграть, а сделать это с помощью точного фехтовального выпада. Вульгарных ударов под вздох, к каким, не колеблясь, прибегали при случае более практичные, чем он, потому более удачливые игроки, Михаил Львович не признавал. Казалось бы, чего проще: чуть зазевается соперник, приоткроет скулу - всех-то делов, что вмазать по ней что есть силы, записать очередное очко и тут же встать со стула, разминая затекшие ноги и небрежно махая рукой секундантам. Можете, мол, передать покойничка на руки болельщикам и родственникам. От таких побед гроссмейстера всегда воротило, выигрыш доставлял мало радости. Красота же влекла к себе неодолимо. Вот и сейчас эта молодая женщина...
Трезвой частью разума, какой он обычно взвешивал очередное предложение принять участие в турнире, он решил - искать встречи с Ингой не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Уж очень молода. Уж очень красива... Но ее лицо плыло в воздухе рядом, едва ли не у самых глаз, не исчезало, как он внутренне ни отмахивался от него, сопровождало повсюду. Даже когда, устав и не надеясь уснуть, он закрывал глаза на полчаса, чтобы таким образом освежить мозг, Инга была тут как тут. Оно было совсем близко, так что он даже смог заметить белесый пушок на ее верхней губе.
Так продолжалось недели две. Гроссмейстер удивлялся своей неспособности отряхнуть от себя видение Инги и досадовал на себя. Ингину русую прядку над темно-серыми глазами он никак не мог забыть и, видя ее перед со6ой, чувствовал, что... Впрочем, он и сам не знал, что чувствовал. Только при мысли о ней нежность стояла в нем легким и теплым облачком.
Проведя как-то в одиночестве целый Божий день за разбором сложнейшей партии из очередного матча чемпионов, гроссмейстер почувствовал ту особенную усталость, когда утомляешься не только и не столько от слишком длинного, перегруженного работой дня, а наваливается на тебя самый худший вид усталости - усталости от жизни. Ему вдруг стало безразлично, вспомнит ли его Инга или нет, отзовется обычной светской любезностью или заговорит с теплотой, которую он почувствовал при знакомстве. Он позвонит ей, они поговорят просто так, о том о сем - и до свидания, навсегда прощай! Конец шведской партии… Так что бывало в последних турах больших турниров. Еще в дебюте, после первой дюжины ходов, уставшие игроки быстро соглашались на ничью и обменивались рукопожатиями в благодарности, что избавили друг друга от ненужных треволнений.
В последний момент, когда он уже направил руку к трубке телефона, он почувствовал тревогу. Что было тому причиной, он понять не мог. Ничего плохого, собственно, произойти не может. Почему бы и не позвонить?..
Как только он услышал низковатый голос Инги, случилось чудо: куда-то мгновенно подевались и усталость, и меланхолия. Она была рада звонку, и он, сам того от себя не ожидая, заговорил с подъемом и даже с неизвестно откуда взявшейся веселостью.
«Ну, поговорил и поговорил», - сказал он себе часом позже, усилием воли подавив волнение. «Теперь надо просто взять и забыть о ней».
Прошло два дня, и он снова позвонил Инге. Потом еще раз. И еще. Он с удивлением отметил, что жить в те дни, когда удавалось ее застать по телефону, было легче и светлее, чем в другие, когда ее не было дома и он слушал ее милый голос на автоответчике. Даже это волновало его...
Гроссмейстер не решался назначить свидание и ограничивался легкими разговорами, пересыпанными комплиментами, нередко двух-, а то и трехходовыми.
- Я пришел домой и прослушал запись на автоответчике, - сказал он однажды. - Там был ваш голос. Хорошо, что сейчас не лето и что моя комната выходит не в сад, а на бензоколонку. Иначе она наполнилась бы пчелами.
- Почему? - рассмеялась она, понимая, что последует что-то лестное.
- Ваш голос мог бы их привлечь.
Так оно и шло в течение нескольких недель. Телефонные звонки, приятные разговоры с легким налетом флирта, и больше ничего. Наконец однажды, поддавшись импульсу, который он испытывал в минуты озарения, когда делал ход не просчитывая, а лишь чувствуя, что ход этот даже если и не выигрывающий, то все-таки что-то обещающий - что-то хорошее должно обязательно получиться, если приподнять вон того незадачливого меринка и перенести поближе к осовелым от долгого безделья стражникам короля, - Михаил Львович пригласил Ингу в театр.
Инга откликнулась с искренней живостью, которая означала, что она давно ждала, когда же он сделает первый шаг.
- Чудесно! - воскликнула она.
Ободренный ее реакцией, он тут же предложил зайти после театра в кафе. Хотел он того ли нет, но получилось - он назначал ей свидание по всем правилам нью-йоркского любовного этикета.
Михаил Львович повесил трубку. На мгновение ему отчего-то стало не по себе, совсем так же, как в тот момент, когда он решился позвонить ей в первый раз. «Я просто трушу, - решил он. - Она молода и красива, я слишком стар для нее - мне стукнуло недавно шестьдесят шесть. Я беден и не совсем здоров. Что я могу ей предложить?»
Но ход уже был сделан, часы пущены, минутная стрелка двинулась по кругу. Дожидаясь встречи с ней, покойно висел между опасно заостренными пиками цифры одиннадцать алый стяжок, кажущийся ничем не примечательным, невинным цветовым пятном, существующим исключительно для оживления черно-белого циферблата. Михаил Львович решил продолжить партию. «В конце концов, - сказал он себе, - в любви, как и в шахматах, нужно следовать железному правилу: «тронул - ходи!».
Свидание было назначено на субботу, и в течение следующих нескольких дней его несколько раз охватывала паника. Что, если она вдруг позвонит и отменит встречу? Что он скажет в ответ? Не удержится и пробормочет что-нибудь вроде: «Я надеюсь, вы достаточно уважаете меня, чтобы сказать правду»?
«Мазохизм меня одолевает, что ли? - подумал он с досадой на себя. - Зачем мне нужна правда? Какое нужно объяснение, если женщина тебе отказывает? Тут тебе все и объяснение».
Михаил Львович волновался перед встречей с Ингой куда больше, чем перед турнирной решающей партией. Там он знал: все, что он может сделать для успеха, - это быть в хорошей форме, а в остальном положиться на фортуну. Здесь же такой простой подход не помогал. Среди прочего ему мерещилось, что вскоре после их последнего разговора Инга встретила какого-нибудь блестящего молодого человека, какого всю жизнь мечтала встретить, и теперь вряд ли захочет попросту тратить время на старичка-шахматиста. Почему она не позвонит и так не скажет…
«Что за чушь? – тут же останавливал он себя. - Что за желание ранить себя еще больше? Она не звонит, не отменяет свидание - все, значит, по-прежнему, как договорились. Я, кажется, совсем сошел с ума от этой шведской красавицы».
Проходили дни, телефон молчал, Инга встречу не отменяла, и Михаил Львович нет-нет да и подумывал, не отменить ли свидание самому. Найти какой-нибудь предлог: срочный вызов за границу... турнир... выход сборника его партий, к которым нужно срочно дописать комментарий… Неважно что, в конце концов. Главное - отменить. Он все думал, никак не мог понять, чем привлек ее. Такой, как Инга, должен подойти какой-нибудь, как пишут в американских брачных объявлениях, высокий привлекательный джентльмен, член совета директоров крупной корпорации, с загаром, приобретенным во время лыжных вылазок в Аспен, штат Колорадо, куда его регулярно доставляет частный самолет его же компании...
Прошли все без исключения дни, оставшиеся до встречи. Инга свидания не отменяла, и он тоже на это не решился.
Делать было нечего. Гроссмейстер поехал к ней на своем старом «бьюике». Его смущало, что дверь с пассажирской стороны открывалась только изнутри.
Поднимаясь на лифте, слушая его добродушное жужжание, Михаил Львович думал о том, что Инга, конечно, заслуживала длинного черного, сверкающего, как новая галоша, заказного лимузина с шофером в униформе и корзины цветов. Но гроссмейстер был беден и, хотя привык жить скромно, в первый раз по-настоящему пожалел, что не преуспел, как некоторые его коллеги. «Ну, что поделаешь, - вздохнул он. – И то хорошо, что проведу с ней вечер. Другого раза, скорей всего, не будет».
Он даже не очень удивился, что Инга, распахивая перед ним дверь, улыбалась не ему особенно, а каким-то своим мыслям. Гроссмейстер не ощутил обычного подъема, имя которому - «Тебя Ждут». Он огорчился, но в то же время почувствовал облегчение: надежды и так было мало, а теперь и совсем не стало. За долгую шахматную жизнь он научился переносить поражения. Конечно, всякий раз расстраивался, но вскоре брал себя в руки. Встречаясь же за доской с выдающимся игроком, с легендой, зная задолго до того, как пустят часы, что продуешься, поражение и вовсе не ощущаешь трагически.
Михаил Львович протянул Инге розу на длинном стебле, завернутую в аккуратный подарочный кулек; ее бутон казался искусно свернутым лоскутом тяжелого бордового, с темным отливом, шелка. Цвет розы показался ему чересчур смелым для первого свидания. Надо было бы поискать какую-нибудь побледнее, но он опаздывал, район вокруг Нового Нью-Йоркского университета, в аспирантском общежитии которого жила Инга, был незнакомым, и он решил не рисковать, что может опоздать. В сущности, детали не имеют значения: больше чем на одну встречу рассчитывать все равно не приходится...
Инга приняла розу без особого удовольствия, даже не показала, что рада подарку. У него и вовсе упало сердце: «Не удивишь ее розой. Привыкла, привыкла к мужскому вниманию красавица шведских дворянских кровей - кажется, так о ней сказала профессорша...»
Инга предложила что-нибудь выпить. Михаил Львович почему-то испугался алкоголя и попросил кофе. Было неловкое молчание. Ему всегда было трудно вести непринужденную болтовню, особенно с красивой и молодой женщиной.
- Надеюсь, вас не беспокоит эта глупая музыка? – сказала Инга, направляясь на кухню. Только тут Михаил Львович обратил внимание, что и в самом деле в воздухе тихо плыла какая-то негромкая мелодия.
- Нет, нет, что вы! Пусть играет.
- Я жду песенку, которую очень люблю, - раздался Ингин голос уже из кухни. - Итальянская. Песенка глупая, но мне почему-то нравится.
- Я не знаю итальянского.
- Песенка - ничего особенного, но вот последний куплет... Этот образ в конце меня почему-то волнует.
- Переведите.
Она появилась в створе кухонной двери, посмотрела на него, усмехнулась и отвела глаза в сторону.
- Песенка слишком уж меня выдает.
- Все же...
Он настаивал по инерции, хотя, видимо, настаивать не должен был. Он не ощутил в ее голосе никакого особого тона, в котором можно было услышать обещание, но он нервничал, боялся упустить нить разговора.
- Ну, что же... - сказала она с улыбкой, как бы говоря: «Вы сами напросились». - Это песня волчицы. Последний куплет о том, как она видит себя окруженной кучей своих волчат.
Инга любовно похлопала ладонью по воздуху вокруг себя, как бы по крутолобым головкам зверенышей. Действительно, она сказала о себе много. Куда больше самих слов, говорил тот факт, что она открылась ему. О сокровенном говорят либо с близким человеком, либо с тем, кто вовсе не в счет. Так, случайный попутчик в поезде дальнего следования, кому сходить на ближайшей остановке. Ясно было, что отнести себя он должен к последним. В конце концов, они видятся только во второй раз... Он понимал, что вряд ли из него может выйти отец будущих детенышей, появления которых жаждала эта породистая шведская волчица. В ней и в самом деле было нечто прекрасно-звериное. Быть может, прямой взгляд широко расставленных глаз и та грациозность, с какой она поворачивала голову, чтобы посмотреть на него во время разговора. Лицо Инги было покойно - так уверен в себе здоровый и сильный зверь.
Она принесла из кухни кофейные чашки. Для уюта поставила на низкий столик короткую свечку и убрала верхний свет, оставив боковой, от торшера. Он подумал о том, что она проделывала этот несложный ритуал много раз. Другие, ее добивавшиеся (а имя им, должно быть, легион), бывали в этой аспирантской квартирке, толпились викинги, а то и некоронованные принцы. Из так называемых хороших семей, элитарного университета элитарные молодые люди. Конечно, куда ему с ними тягаться! И все-таки каким-то чудом он оказался здесь ...
Свечка, которую Инга поставила перед ним, едва занявшись, погасла. Инга едва заметно усмехнулась.
- Do you believe in omens?[*] - сказала она и спокойно посмотрела ему в лицо.
Как тут быть? Что бы он ни ответил, было бы гибелью, безрадостным концом так и не расцветшего романа. Скажи он «да», и все кончено. Сам признал всю мглистость и бесперспективность своего визита. Сказать «нет» было бы жуткой самонадеянностью, претензией, которая обычно за доской вызывает у соперника ироническую усмешку. Он ужаснулся от того, как неожиданно быстро очутился в трудной позиции. «Белые стали испытывать затруднения уже в самом начале дебюта», - четко сложилось в голове. Неужели он попался на элементарную ловушку, на трехходовой - «детский» - мат? Такое с ним не случалось лет, кажется, с шести, когда он только начинал играть. Мат позорный, даже издевательский.
Михаил Львович был готов к тому, что проиграет, но полагал, что произойдет это куда позднее, в самом конце вечера, в результате сложного маневрирования.
Он почувствовал себя полым ящичком, в который сгребают после игры шахматные фигуры. Поделом! Что он себе напридумывал? На голове у него вместо короны оказался дурацкий колпак, и королева, забавы ради, хлопала по губам бедного лысеющего короля шутовским бычьим пузырем с горошиной внутри - для глупого треска. До слуха Михаила Львовича явственно донесся топот коней королевской стражи. Мелькнули в воздухе копыта вставшего на дыбы коня на «f6», блеснули у самых глаз подковы, так что он успел заметить решетчатые шляпки добротно вогнанных гвоздей. В нос немедленно ударил терпкий запах лошадиного пота. Еще минута - и его подхватят под мышки и поволокут с позором вон. Он снова очутится в своей полуприбранной комнатенке с тремя шкафами шахматных книг во Флашинге, на дальней нью-йоркской окраине. Запах свежесрезанной розы и чистой, ухоженной женщиной квартиры сменится запахом вчерашнего, подгоревшего, кофе.
В то утро полусонный, еще в пижаме, он наскоро разогрел остатки кофе, хотя давно знал, что он ему вреден - стало пошаливать сердце. Но нужно было разобраться в «Каталонском дебюте» из последней партии матча претендентов на чемпионское звание. Анализ нужно было дать в газету в тот же день, и он торопился сбыть его с рук, чтобы освободить вечер. Вот и освободил, называется... Он подумал со стыдом, что хотя давно не молод, увы, все еще неосмотрителен. Мог бы уже набраться ума-разума! Ан нет - поддался импульсу, набрался чудовищного нахальства, пришел к Инге. Мелькнула мысль о том, чтобы извиниться и уйти без особых объяснений.
Как это случалось за доской в те минуты, когда он чувствовал близость поражения, коротко и больно сжалось сердце. Один, совсем один… Жена уже несколько лет, как оставила его. Она учительствовала, вечера проводила за тетрадками, уставала и относилась к его шахматным делам, по меньшей мере, с прохладцей. Когда он возвращался с турнира после двух, а то и трех недель разлуки, она часто забывала даже задать дежурный вопрос «Как сыграл?». Ему иногда казалось, что в ее глазах он был чем-то вроде коммивояжера.
Он размышлял обо всем этом, когда услышал, что говорит на этакой бравурной нотке:
- Я, Инга, с «оменами» на короткой ноге. Иногда поговорю с ними как следует, и они передумывают.
Она взглянула на него ласково, во всяком случае, доброжелательно. Оценила остроумие. Каким-то чудом он удержался на краю неожиданно развернувшейся пропасти.
Дрожание под коленками оттого, что он так быстро, едва начав партию, не потерпел поражение, повторилось еще несколько раз в течение вечера. Он испытывал непонятную тягу, знакомую всякому, кто избежал гибели: хотя понимал, что делать этого не нужно, возвращался к месту, где его испытывал рок, - к эпизоду со свечкой. Самим возвращением он как бы говорил Инге: «Я помню ту изящную ловушку в самом начале. Не считаю, что проиграл ту схватку, вот свободно напоминаю о ней».
Тема свечи возникла, по крайней мере, дважды в течение вечера. Первый раз – в театре, во время спектакля, когда герой пьесы принялся зажигать канделябры, Михаил Львович подождал, когда они занялись (то есть, когда помреж за кулисами двинул рычажок реостата), наклонился к Инге и прошептал: «Ему больше повезло».
Она улыбнулась.
Потом, после театра, в небольшом кафе Гринвич-Виллиджа, усаживая их за столик, официант с короткой косицей на темени и набором изящных серебряных скобок в правом ухе поставил перед ними короткую толстую свечу в небольшом пузатом сосуде из темно-вишневого стекла. Пока пламя успокаивалось, по Ингиным губам и щекам блуждали темно-розовые, цвета размытой крови, тени. Гроссмейстер сказал с улыбкой, что сегодня его определенно преследуют свечи. Инга усмехнулась и после паузы спокойно сказала:
- Я, конечно, могла бы поменять ее, но мне почему-то не захотелось.
И взглянула на него.
Оттого, что она сказала это с улыбкой, он не сразу даже ощутил удара.
Не хотелось, так зачем же все остальное? Зачем она здесь, с ним? Небрежность молодости, которая не соизмеряет своей силы, хлещет походя, уверенная в том, что безмерно крепка не только она, но и весь мир; его нельзя серьезно повредить?
Он почувствовал давно не испытываемое унижение, какое случилось с ним, кажется, не более чем дважды в жизни, в его первых юношеских турнирах, когда противник, доминируя по всей доске, пренебрегал натурой – не брал ни пешек, ни коней - открыто ухмыляясь, предвкушая скорый мат. Оба раза он чудом спасся, сведя на ничью. Но теперь?..
Он знал, что в сегодняшней игре ничьей не будет, и пленных тоже никто не будет брать. Удушливый запах поражения стал слоиться вокруг него. Зачем он здесь? Что теперь? Встать и предложить отвезти домой?
Минутой позже, снова собрав волю, он решил, что сдать партию никогда не поздно. Вопрос в том, остались ли у него какие-либо шансы на ничью. Не быть разложенным на лопатки, уйти с достоинством – неплохой исход при его напрочь разваленной позиции. Зато урок - какой урок!
Собравшись с духом, он поднял голову, посмотрел Инге в лицо. Глаза шведской красавицы, взгляда которых он так долго избегал, с искренним интересом смотрели на него.
- Где вы себя видите через десять лет, Михаил Львович? - сказала она улыбаясь.
«Что ж, вперед, дальняя родственница, бедная сиротка, на «h»!»
- В Париже, - сказал он по наитию и тотчас увидел, что угадал. Инга еще шире улыбнулась. Она так и думала. Он будет в Париже. Она тоже там будет через десять лет. Где еще быть? Она это не просто чувствует, она это знает...
Двинув пешку, Михаил Львович успокоился, стал смотреть Инге в глаза, уже не боясь ее ответного взгляда. Она наклонилась к нему, коснулась его руки и сказала с удивлением и смехом:
- Знаете, Михаил Львович, в вас есть что-то от волшебника...
Ах, как весело шагнула снова пешечка, пехотная скромная дурочка! Пахнуло утренним лугом, свежескошенной травой, легким духом мяты - ах, да, кажется, именно ею был приправлен салат. Ветерок начал трепать бело-голубые плюмажи офицеров, клюющих носом в своих седлах. Офицеры приободрились, подтянули ремни на лошадиных мордах. На крепостных башнях заскрежетали, царапая камень, метлы - началась быстрая уборка. Сонным часовым будто плеснули холодной воды за шиворот длиннополых шинелей. Ухая от неожиданного пробуждения, они сжали покрепче алебарды и принялись покрикивать друг другу, от поста к посту: «Эй, там, на верхотуре, не зевать!» Что-то уже чудилось в воздухе, какое-то возникло возбуждение; неясно откуда, но почуялся далекий гул земли - идет, бредет неведомая сила.
Они вышли из кафе. Было не по-зимнему тепло. Гроссмейстер взял Ингу под руку. Она обрадовано приняла этот жест, даже прижалась к нему плечом. Отворачивая лица от фар встречных автомобилей, они пошли вдоль узких улочек Гринич-Виллиджа, напомнивших ему провинциальный южный город ранней юности. Они заговорили по-дружески, как близкие люди. Михаила Львовича это обрадовало, но была и легкая тревога. Он не хотел одной только дружбы с Ингой. Он хотел ее любви. Любви - и ничего меньше. Меньше - не имело значения.
Расставаясь в машине у подъезда ее дома, Михаил Львович протянул Инге руку. Весь вечер ему хотелось коснуться ее руки, но он так и не решился. Теперь нашелся предлог.
- У вас хорошая рука, - сказал он, с удовольствием прижимая свою ладонь к ее ладони. - Теплая и крепкая.
Он почувствовал, что не в состоянии отпустить руку Инги. Еще мгновение, и время, приличествующее для прощального рукопожатия, истечет. Он уже было принялся высвобождать ее пальцы, как обнаружил, что Инга держит его руку в своих ладонях. Она наклонилась к нему и снова сказала, вглядываясь в его лицо с легким смехом:
- В вас есть что-то магическое. Может быть, вы действительно волшебник?
Не отпуская его, она повлекла гроссмейстера за собой. Мелькнули вверху стручки уличных фонарей. Неподалеку от подъезда, с темной стороны улицы, послышался чей-то смех – беспечный и счастливый. Звякнул ключ в замке парадной двери. Полыхнули с потолка холодно-белые светильники вестибюля. Мерно и натужно жужжа, лифт поднял их на третий этаж и молодецки щелкнул напоследок как бы в удовлетворении своей точной работой.
Тело Михаила Львовича охватило сухим жаром, как будто то был жар сауны. В быстром мелькании света и тьмы он не видел ничего, кроме мерцающего Ингиного лица рядом с его лицом. Впервые он понял, что значит - смотреть во все глаза. Чувствуя его особую взволнованность, Инга шепнула в его ухо, блистая глазами:
- Это и есть то, что называется жизнью. Не правда ли, гроссмейстер?
По воздуху, подошвами туфель едва касаясь синтетического, стриженного бобриком ковра, они вплыли в квартиру. Не снимая шубки, черно-серый с подпалинами мех которой на мгновение почудился Михаилу Львовичу мехом волчицы, Инга опустилась на диванчик, мягко потянув гроссмейстера за собой. Ее глаза совсем переменились. В них не было больше пугающей простых смертных красоты, а была теплая домашняя родная душа. Еще мгновение - и, казалось, она перестанет быть женщиной, самкой, полной нестерпимого очарования, а заговорит без кокетства и отвлекающих маневров о том, что понимает - да, пора прорваться его одинокой упорной далекой пешке на «h». Заговорит теплым любящим голосом, как говорила в детстве мама, поставив перед собой, прижав к своим коленям, разбрасывая своими чудесными пальцами волосы на его лбу для поцелуя. Как от запаха ее духов стучало сердце!..
Тут Михаил Львович понял то, над чем никогда даже не задумывался. Понял, что, сколько себя помнил, двигал деревянные расточные фигурки по лакированным черно-белым полям ради этого мига, этого родного взгляда. С того времени, как умерла мама, ни одна женщина ни разу так на него не смотрела. Он понял столь ясно и просто, что в тайне от него самого целью всей его странной жизни внутри древней, придуманной каким-то гениальным шаманом игры была мелькнувшая в лунном свете рука, которую он, сам того не замечая, стал целовать. Свершилось чудо: не мама, а другая ослепительно прекрасная женщина целовала в ответ его руки, нежно терлась щекой о его щеку и смотрела на него, в него одного.
С не меньшей ясностью он также почувствовал, что впервые теряет способность к анализу. Но его это не встревожило. Он увидел вдруг, что эта женщина - и есть его самый главный приз. Жизнью как она есть, жизнью как способом дыхания он больше не дорожит. Если Инга обнимет его, отдастся ему, его жизнь после этого не будет иметь никакой цели, никакого смысла. Эта молодая женщина была и есть и цель, и смысл, и содержание его жизни.
А между тем Инга уже обнимала его необыкновенно жаркими руками и склоняла в муке свое лицо над ним. Она говорила то, что он так надеялся услышать от нее: «Дорогой мой». Она стала сначала мягко, едва касаясь губами, потом все крепче и крепче целовать его. Пешечка, вздохнул он радостно, доползла скромным червячком до последней клетки, прошла в ферзи. Червячок вспорхнул с земли не бабочкой, а боевым соколом.
Но время истекло. Едва заметно заколебавшись в последний миг, алый флажок расцепился с подпиравшей его стрелкой. Ринулся вниз, к подножию цифры «одиннадцать», к плоскостопным ее ногам, затем качнулся раз-другой, прежде чем неподвижно - навсегда! - повиснуть. В следующий же миг наступила тьма, и остатком угасающего сознания гроссмейстер понял, наконец, кто такая Инга и отчего его так неудержимо влекло к ней. Ну, конечно, как же он сразу не догадался!
- Да, да, как же иначе! - попытался сказать он запекшимися губами. - Как же я сразу не увидел! Это же так просто!
Рука Инги скользнула между тем в створ его рубахи на груди. Едва коснувшись кожи, проникла внутрь. Ее пальцы оказались обжигающе холодными и не по-женски крепкими. Одним движением они сумели сжать сердце и навсегда остановить его биение.
[*] - Вы верите в предзнаменования?
Впервые вышел в журнале Вестник (Балтимор), в переводе на англйский - в журнале The Kenyon Review. Вошел также в мой сборник рассказов The Supervisor of the Sea. В интернете не выставлялся.
3 апреля 2011г.






























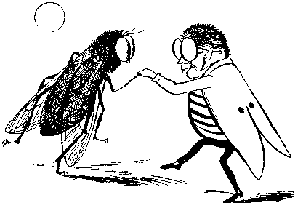















Комментариев нет :
Отправить комментарий